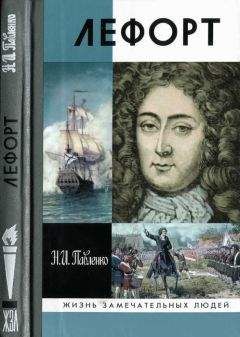Ознакомительная версия.
Она вышла на набережную Черной речки, оставила слева Головинский мост, миновала и Головинский дворец и, облегченно вздохнув, повернула вправо — на Никольский проспект. В угловой комнате, где размещалась спальня Малевского, сквозь плотно задвинутую штору желтел огонек керосиновой лампы.
У Анюты обрадованно забилось сердце. «Как хорошо, он дома! — думала Анюта. — То-то обрадуется моему приходу!»
Двери черного хода были не заперты. Не встретив никого из прислуги, она сняла с себя ставший тяжеленным бурнус, сбросила штиблеты и, оставляя на паркете мокрые следы, отправилась к спальне. К своему удивлению, она услыхала несшиеся оттуда голоса. Один принадлежал Малевскому, а второй был… женским.
Обмирая от страшного подозрения, она толкнула дверь. Та оказалась закрытой на ключ изнутри. Голоса тут же смолкли.
Анюта вновь и вновь толкнула дверь и сквозь слезы крикнула:
— Открой!
Из— за дверей раздался пьяный и неожиданно веселый голос Малевского:
— Не шуми, дружок! У меня деловое совещание.
Он помолчал и вдруг залился смехом, словно его озарила забавная идея:
— Я проводил опыт. Вполне научный! Выяснял: в какой степени внешнее сходство соответствует внутреннему, так сказать, содержанию. Делаю вывод: не соответствует. Испытания продолжаю далее. О результатах доложу особо.
И вдруг резко сменил тон, нарочито строго произнес:
— Дружок, быстро — аля-улю! — домой. Не нарушай чистоту эксперимента. Завтра я сам приеду к тебе. Поедем в ювелирный. Куплю подарок.
Анюта вдруг поняла свое бессилие. Ее всякий может оскорбить, унизить, плюнуть в душу. Даже тот, кого она любила больше своей жизни.
Чтобы обдумать себя, свое положение, она на плохо послушных ватных ногах отправилась в соседнюю комнату — там был кабинет Малевского. Она ярко, со всеми натуралистическими подробностями представила себе то счастье, которое испытывает вот здесь, за этой тонкой стенкой ее соперница. Дико завыв, повалилась лицом вниз на козетку, обитую красным, словно свежая кровь, шерстяным репсом.
Ей хотелось в одно и то же время с лютой, истинно звериной жестокостью расправиться с изменщиком и любить его нежно, самоуниженно, забывая о стыде, доходя до крайних степеней разврата и унижения.
Вдруг она вздрогнула: в коридоре послышались быстрые легкие шаги и стук закрываемой двери внизу.
— Эта женщина ушла, — глухо произнесла Анюта — Но это ничего не меняет. Я так устала от страданий. Господи, прости меня, больше не могу. Я знаю, где револьер…
Она чиркнула серником, зажгла две свечи, стоявшие в подсвечнике. Выдвинула верхний ящик. Там желтовато блестел четырехзарядный «Кловерлиф» — новейшая модель Кольта. Анюта написала на большом листе бумаги, нервно вдавливая карандаш: «Семен Францевич, умираю, помолюсь за вас Пошли Господь вам счастья. А.».
Она приставила револьвер к груди, чуть ниже соска, с силой нажала на курок. Выстрела не последовало. Еще, еще нажимала несчастная женщина — «Кловерлиф» не стрелял. Тогда Анюта стала нервно вертеть оружие и, наконец, сняла с предохранителя. Направила в потолок — надавила на курок раз, затем другой. Прогремели два выстрела, с потолка посыпалась легкая пыль.
Дверь тут же распахнулась. В распахнутом халате стоял встревоженный Малевский:
— Не безобразничай! Ты мне не жена, чтобы распоряжаться моей свободой. Дай сюда револьвер! — и он, шагнув вперед, протянул руку.
Вдруг страшная мысль пронеслась в ее сознании. С легкой улыбкой она сказала:
— Теперь мы уже никогда не изменим друг другу! — и выстрелила почти в упор. Малевский повалился вперед, стукнулся головой о кресло. Анюта направила «Кловерлиф» в затылок и выпустила еще одну пулю.
Тело дернулось, мелко забилось в предсмертных судорогах. Вокруг головы расползалась большая лужа черной крови.
— Прощай, милый! Прощай моя большая любовь…— шепотом произнесла Анюта. Чтобы запечатлеть последний поцелуй на устах убитого, она встала на колени, перевернула голову и в ужасе отпрянула. Еще минуту назад блиставшее красотой лицо, превратилось в бесформенную кровавую маску.
Анюта быстро, не раздумывая, вставила дуло револьвера себе в рот, нажала на курок. Выстрела не последовало — кончились патроны.
В тот же миг в кабинет вбежала прислуга. Герасим приказал:
— Лизавета, несись в полицию. А я эту потаскуху постерегу, — и он грубо вырвал из рук Анюты «Кловерлиф».
На судебном процессе обвинитель Плющик-Плющевский, картино вздымал руки, пытался внушить присяжным, что «убийство всегда есть убийство, ибо оно лишает человека священного дара — жизни». Как-то особенно ласково поглядывая и в зал, и на присяжных, обвинитель торжественно произносил:
— Жизнь — это священный дар, отпущенный природой человеку. Ничего дороже этого дара нет-с! И тот, кто посягает на него, отвергает себя от рода человеческого, отторгает от себя всякое сочувствие и милосердие. Подсудимая молода, смазлива. И эти качества она использовала с гнусной целью, соблазнив замечательного, ничем не опорочившего себя человека.
Плющик— Плющевский, отставив мизинчик, отхлебнул воды и патетически продолжал:
— Вы поняли, я говорю о светлой личности — о Малевском. Кириллова совершила кровавое злодеяние по причине нравственной черствости собственной натуры — порочной и грубой. Признание ее виновности послужит хорошим уроком всем тем «ночным бабочкам», которые в последнее время во множестве развелись в природе нашего нездорового, давно больного общества. Итак, господа присяжные, слово за вами.
Эта речь сочувствия в зале не вызвала.
Зато резюме знаменитого защитника Н. П. Карабчевского, говорившего о несчастной судьбе девушки, «замечательной своими душевными качествами, ставшей жертвой развратного и высоко в обществе поставленного человека», вызвала восторг. И слезы умиления. Кто-то захлопал в ладоши. Председатель был даже вынужден распорядиться, чтобы из зала вывели несколько наиболее эмоциональных дам.
По окончании суда хроникер писал: «Присяжные тонко и хорошо рассудили дело: они оправдали Кириллову».
Анюта пошла послушницей в один из отдаленных провинциальных монастырей. Там бывшая убийца и приняла постриг. Отличалась она добрыми делами и строгой жизнью. И всегда раскаивалась в своем злодейском поступке.
Что касается Надежды Пильской, то она вышла замуж за какого-то иностранца, уехала из России и никто о ней более не слыхал.
ВАЛЕНТИНУ СИЛАЕВУИной читатель, возможно, недовольно поморщится: «Зачем, дескать, рассказывать о столь чудовищном преступлении, от которого кровь стынет!» Скажу: негоже уподобляться страусу и прятать голову от реальной жизни. В этой истории причудливо переплелись любовь, кровавые социальные катаклизмы, патологические извращения маньяка. Не обошлось без случайности, которая рано или поздно подстережет преступника, дабы явить миру его черные дела.
Когда— то у Эмилии, или как звали ее близкие — Эммы, было все, что нужно для счастья: богатый московский дом ее отца — известного архитектора, красавец-муж, великое множество родственников и друзей. Настоящая жизнь, впрочем, началась лишь после окончания гимназии. Литературные и музыкальные вечера, премьера в Большом театре, пьеса в Малом, восхищение баритоном Шаляпина и смелыми пьесами Горького — все это составляло будни и праздники того интеллигентского круга, к которому Эмма принадлежала. А еще были загородные прогулки, катания на рысаках, веселые ужины в «Стрельне», «Метрополе», «Праге»…
И вот эта яркая, со всем шумным и приятным многообразием жизнь, рухнула после переворота в октябре 1917 года и воцарения никому прежде неведомых большевиков.
Теперь, сидя в квартирке когда-то обожаемого, а теперь тихо ненавидимого Парижа, на широкой улице Пасси в престижном 16-м арисменде (районе), Эмма не переставала удивляться той стремительности, с какой изменилась ее судьба, судьба близких людей, да и судьба самой России — великой, сильной, могущественной.
Нежно проводя рукой по шелковистым кудрям пятилетней дочурки, Эмма говорила:
— Ты, Аннушка, мое единственное сокровище…
Дочка целовала узкую кисть матери и в тон отвечала:.
— А ты, маменька, у меня самая любимая! Пойдем гулять, ну, пожалуйста! Сегодня такая солнечная погода.
Они спускались вниз по лестнице, кланялись консьержке и попадали в разноцветье толпы, спешившей в магазины, кафе, по служебным делам.
Эмме 26 апреля исполнилось 29 лет, но глядя на ее хрупкую, стройную фигуру, легкую походку, можно было дать и меньше. Во всяком случае, мужчины обращали внимание на нее и провожали восхищенными взорами.
Но если кто-нибудь вглядывался в ее крупные, чуть прикрытые веками глаза, то легко мог разглядеть в них усталую печать много видевшего и много пережившего человека.
Ознакомительная версия.