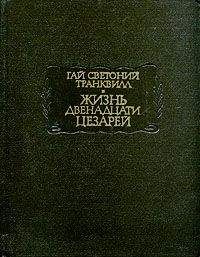— Шарманка — не оружие якобинцев. Якобинцы делают свое дело тайно, а шарманка лезет в уши всем. К тому же, как вы изволили докладывать его величеству, шарманка играла что-то схожее с «Марсельезой». На днях я прочитал стихи Хомякова. Звучные стихи. Они схожи со стихами Пушкина, но они все же не пушкинские.
Доводы понаторелого в сыскных делах Мордвинова могли бы убедить Николая, если бы он не был так напуган недавними революционными вспышками в Европе; угроза, которая таилась в сообщении Дубельта, не могла исчезнуть так быстро.
Николай перевел глаза на Дубельта:
— Как по-твоему: пушкинские или хомяковские?
— Полагаю, ваше величество, что среди пушкинских могут оказаться и хомяковские.
— Полагаю, — повторил Николай ровным, безучастным голосом. И вдруг закончил, улыбаясь: — Дубельт, ты шарман…
Дубельт склонил было благодарно голову, но тут же, поняв тайный смысл царского комплимента, побагровел. Приятное французское слово «шарман», в переводе означающее «очаровательный», «обворожительный», Николай произнес четко, букву за буквой — этим он придал слову совсем иное звучание. И Дубельт понял, что французское слово «шарман» — только начало русского слова шарманщик.
Комплимент обернулся зловещим предостережением.
Графа Николая Олсуфьева, поручика лейб-гвардии Семеновского полка, товарищи звали Козликом, хотя он решительно ничем не напоминал козла. От матери-итальянки поручик унаследовал смуглый цвет лица, грустные глаза и южный темперамент; от отца — крупный нос, мощный подбородок, богатырский рост и чрезвычайное легкомыслие. Не на козлика был похож поручик, а, скорее, на крупного зверя, которого природа случайно наделила глазами газели.
По происхождению и богатству Олсуфьев принадлежал к высшему петербургскому свету, но легкомыслие влекло его за кулисы театров, в трактиры.
В полку Олсуфьева любили; если и поругивали, то лишь за то, что частенько он пропадал невесть где и невесть с кем.
Август и сентябрь 1848 года были как раз месяцы, когда граф, увлекшись в который раз, исчезал неизвестно куда. На этот раз он увлекся серьезно. Началось это вот как.
После дежурства во дворце Козлик направился к своему другу, графу Григорию Кушелеву-Безбородко, поручику того же Семеновского полка. Жил Безбородко на Сергиевской со входом через двор. Двор был четырехугольный, в центре фонтан с мраморным гусем на макушке. Обычно возле фонтана играли дети, но сегодня там вертел ручку шарманки долговязый, бронзоволицый старик, с полукруглым шрамом на длинной шее; а на коврике, разостланном рядом, танцевала очаровательная девушка. Тонкая, гибкая, она как будто играла с невидимым существом: то прижимала существо это к груди и описывала с ним вихревые круги, то бережно укладывала существо на коврик и на пуантах удалялась от него, чтобы тут же вернуться и, склонившись, подхватить свою живую игрушку и вновь закружиться с ней или, подняв ее к небу, застыть в молитвенном экстазе; стройные и упругие ноги девушки, словно пригвожденные к месту, дрожали ритмично, подобно тростникам на заре.
Да и лицо, вернее, глаза играли. То в них светилась печаль разлуки, то сияла радость встречи, то вдруг вспыхивал озорной огонек насмешки.
Глядя на это зрелище, Козлик умилился.
Когда девушка после танца начала обходить с оловянной тарелкой публику, Козлик следил за каждым ее движением. Ничего заискивающего, такого обычного для уличных плясуний, не было в ее взгляде; она даже не благодарила за брошенную в тарелку монету, а лишь легким, даже чуть высокомерным кивком головы как бы подтверждала получение платы за проделанный ею труд.
Когда она подошла к Козлику, тот положил на тарелку все, что имел при себе, — 260 рублей.
Девушка взглянула на него пристально, потом сказала по-итальянски:
— Вы очень щедры, синьор офицер.
— Танцуете вы божественно! — произнес он восторженно.
— Брось! Брось! — прокричал попугай.
Девушка потупилась и сказала шепотом:
— Простите, это хозяйка, где мы живем, научила его.
И отошла. Поставила на шарманку тарелку с деньгами, скатала коврик и, накинув на плечи длинный плащ, посмотрела в сторону офицера: он стоял на прежнем месте.
Козлик узнал, что девушку зовут Тересой, а ее отца Финоциаро и что живут они на Охте. Сначала Козлик посылал туда своего лакея с цветами и конфетами, потом направился в гости сам.
Приняли его учтиво, хотя у старика Финоциаро нет-нет, а прорывалось недружелюбие.
Визиты становились более частыми. Олсуфьев был мил, занимателен, скромен, и ему не стоило большого труда убедить хозяев, что побуждения его бескорыстны, ибо он сам поверил в это. Он ездил на Охту, как ездят из душного города в деревню, где радует не то, что природа дает землепашцу, а она сама. Охта стала для Олсуфьева миром вновь обретенного детства, проведенного с матерью в Италии, миром чистых помыслов.
Вечера же, проведенные с русским офицером, уводили хозяев из сурового Петербурга в привычный им мир певучей речи и веселых шуток.
Так продолжалось недель шесть — до злосчастного сентябрьского заката, когда шефу жандармов Дубельту почудилось, будто шарманка Финоциаро играет «Марсельезу», — вернее, когда честолюбивому Дубельту показалось, что он наконец-то набрел на единственно верное средство, которое поможет ему оторвать «тень» — Мордвинова — от Николая.
В этот вечер Олсуфьев дежурил во Дворце. Рано утром, еще до сдачи дежурства, лакей принес ему письмо от Тересы.
Помогите, я в отчаянии: ночью арестовали отца.
Кроме вас и мадонны, мне не к кому прибегнуть.
Олсуфьев тут же решил: «Дам сотню квартальному, и он освободит старика».
Но на Охте, выслушав рассказ Тересы, Олсуфьев понял, что сотней тут делу не поможешь: III отделение — не полиция, куда можно сунуться со взяткой. Однако он сказал девушке:
— Есть у меня ход и к жандармам!
В его заявлении прозвучала вера в свои силы и возможности, а не простое желание успокоить или освободиться от неприятного разговора.
С Охты Олсуфьев отправился на Сергиевскую, к Кушелеву-Безбородко, к своему душевному другу. Ему, графу Безбородко, Олсуфьев поверял затаенные мечты, с ним он делился своими радостями, у него искал утешения в печалях. Умный и не по летам степенный, Кушелев-Безбородко был для Олсуфьева тем светлым лучом, который способен согреть и успокоить. После кутежей, гадких и безобразных, Олсуфьев ходил к Грише очищаться, заранее предвкушая радость от дружеской встречи.
Олсуфьев не подозревал того, что Безбородко дружит с ним только из расчета, не подозревал, что он, Олсуфьев, служит лишь ступенькой той лестнице, которая должна привести Григория Безбородко к заветной цели. Наивный и простодушный Олсуфьев плохо знал своего друга.
Григорий Кушелев-Безбородко задался целью повторить карьеру своего прадеда, канцлера Безбородко. Еще в корпусе он составил для себя план будущего восхождения. В двадцать лет — поручик гвардии, в двадцать три — капитан гвардии, в двадцать восемь — полковник и командир армейского полка, а в тридцать два — генерал-майор и начальник штаба одного из гвардейских корпусов, в тридцать пять — генерал-адъютант и командир армейской дивизии, в сорок — сорок два — генерал-губернатор.
Григорию Безбородко сейчас двадцать лет — он поручик гвардии. Чтобы плавно подниматься по лестнице, ему нужна сильная рука — рука, которая будет отталкивать конкурентов и передвигать его со ступеньки на ступеньку. Безбородко нашел такую руку: всесильный граф Адлерберг. Однако все попытки отца Безбородко и его дяди Александра Григорьевича, государственного контролера, сблизиться с гордым остзейским графом не увенчались успехом: дворцовая знать жила замкнутой кастой и никого со стороны не пускала в свою среду. Вот тогда ловкий поручик сдружился с Николаем Олсуфьевым: тетка Николая была замужем за Адлербергом. Правда, Николай Олсуфьев не любил ни своей тетки, ни ее мужа, но своего душевного друга все же ввел в их дом. Там Безбородко пришелся всем по сердцу. Адлерберг нашел, что молодой офицер весьма рассудительно освещает настроения гвардейской молодежи, а настроения эти болезненно задевали Николая I после выстрелов на Сенатской площади; жена Адлерберга, замаливавшая какие-то грехи, нашла в Григории Безбородко приятного спутника по «святым местам»; а их дочь Елена, охромевшая после неудачного падения с лошади, привязалась к нему, потому что он был красив, умен и подавал надежды.
В семье Кушелевых-Безбородко с затаенной радостью ожидали дня, когда их умница Гриша объявит наконец о своей помолвке.
Гриша Безбородко, делавший все по плану, наметил 26 ноября — день девятнадцатилетия Елены — для серьезного разговора: сначала с ней, потом с ее матерью и, наконец, с самим графом Адлербергом. В согласии Елены и ее матери Безбородко был уверен, а с их помощью он добьется и согласия гордого Владимира Федоровича. Тогда план, составленный еще в корпусе, будет обеспечен. Под руку с таким тестем он легко поднимется на высшую ступеньку государственной лестницы.