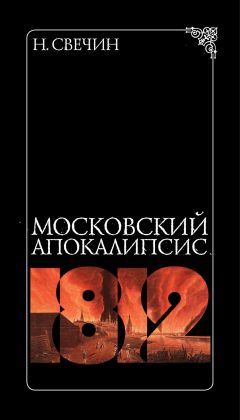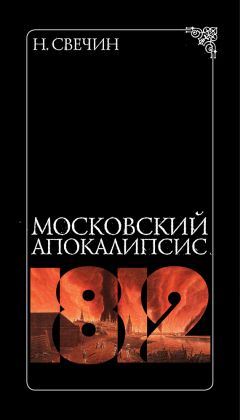Поднявшись, Пётр осмотрелся. Вокруг стояло несколько по-разному одетых людей. Один, крепкий, молодцеватый, с седыми усами, был в мундире лейб-гвардии Егерского полка с нашивками старшего унтер-офицера. Пуговицы и арматура кивера отливали начищенным металлом, словно егерь вышел на парад. В руках он держал дымящийся штуцер.
– Спасибо! – сказал ему Ахлестышев. – Если бы не твой выстрел…
– Пустое! – махнул тот рукой. – И так сбирались их перебить. Но вы славно начали. Решили тогда поглядеть. Вдруг без нас обойдётесь? Сгодились.
Со стороны Страстной площади послышались крики, и на бульвар высыпал патруль из фузилёров. До них было пятьдесят саженей.
– Тикать надо! – рявкнул Батырь, торопливо собирая оружие с мёртвых конвоиров.
– Сейчас я их отважу, – сощурился унтер-офицер, передавая соседу разряженный штуцер. Тот вручил ему своё ружьё, а принятое стал торопливо заряжать. Егерь выстрелил, почти не целясь. Офицер, что бежал впереди, сломался в коленях и упал ничком. Фузилёры замешкались. Егерь вновь заменил оружие и следующим выстрелом сбил второго противника. Патруль рассыпался: французы укрылись за деревьями и открыли ответный огонь. Не обращая на него никакого внимания, унтер-офицер принял заново заряженный штуцер. На этот раз он целился чуть дольше. Выстрел – и рухнул ещё один противник. Оставшиеся не выдержали и начали убираться с бульвара назад.
– Не по еде отрыжка, – удовлетворённо кивнул загадочный егерь. – Уходим!
Вместе с беглыми русских оказалось семеро. Подобрав ружья с подсумками, они быстро зашагали в сторону Бронных улиц. Уже через несколько минут преследование их сделалось невозможным. Дома в паутине переулков перестали существовать. Они или обрушились, или превратились в выгоревшие изнутри пустые коробки. Груды кирпича и дымящихся обломков сложились в устрашающий пейзаж. Идти вглубь не хотелось…
Пройдя извилистым путём саженей двести, отряд остановился во дворе бывшего особняка. Тот полностью сгорел со всеми постройками. Посреди пепелища стоял целый и невредимый колодец с воротом, но без ведра на цепи. Рядом лежал обугленный лист кровельного железа. Унтер-офицер топнул по нему трижды, и негромко сказал:
– Смоленск!
Лист отъехал в сторону и открылся лаз. Спустившись в него вместе со всеми, Ахлестышев оказался в обширном и глубоком подвале. В одном его углу лежали рогожи и тулупы, стояли сундуки; к стене было приставлено несколько ружей. В другом пылала жаром большая печка. На вьюшках булькало в огромной кастрюле варево, распространяя вокруг удивительные ароматы. В свете масляной лампы молодая девушка, по виду из дворовых, чистила картошку.
– Мы дома, – сказал егерь, аккуратно ставя в угол штуцер. – Пора завести знакомство.
Семеро мужчин сошлись в круг.
– Купец Голофтеев, – назвался самый старый, с седой бородой, но жилистый и гибкий.
– Тюфякин, – коснулся картуза дядька лет сорока, с лукавыми глазами. – Коренной москвич и сиделец долговой ямы.
– Зосима Гуриевич Саловаров, – сказал корпусный мужик лет тридцати пяти, свирепой наружности. – Староста артели нищих, что при Симонове монастыре.
– Староста нищих? – ухмыльнулся Саша-Батырь. – А по виду гайменник.
– Гайменник здеся я, – скромно пояснил молодой парень с румяными щеками и русыми мягкими волосами. – Васькой Пунцовым кличут.
– Чьих будешь?
– На Грузинах промышляли.
– У Говяша в подмастерьях ходил? А сам-то он где?
– Убили Говяша третьего дня. Беспальцы[38] повесили.
– Эх, жалостно. Клёвый был маз[39], справный душегуб!
Егерь вышел в середину круга.
– Ну, а главный здесь я. Зовут Отчаянов Сила Еремеевич. Старший унтер-офицер лейб-гвардии Егерского полка. Отстал от своих, когда раненых размещал. Воюю. Вот с ними. А вы кто такие?
– Я зовусь Саша-Батырь. Сидел в Бутырке под следствием. Отлучился, когда эта каша заварилась.
– Батырь? Я об тебе слыхал! – обрадовался Пунцовый. – Первый среди нашего брата силач! Это ведь ты в Волчьей долине верховодишь?
– Мой притон.
– А я Ахлестышев Пётр Серафимович. Приговорён к двадцати годам каторжных работ. Отлучился вместе с Сашей – мы с ним товарищи.
– Из благородных, я смотрю? – сощурился егерь.
– Был, да весь вышел.
– За что каторгу выписали?
– Облыжно, – одним словом пояснил Пётр.
– Ну, нам это всё равно. Будь хоть пёс, лишь бы яйца нёс! Ты уж не обижайся, твоё благородие, но мы с тобой будем по-простому. Тут бар нету.
– А со мной и надо по-простому.
Отчаянов согласно кивнул головой и обратился к девушке:
– Машутка, как там щи?
– Поспели, Сила Еремеевич!
– Разложи так, чтобы и гостям хватило. И хлеба побольше нарежь.
Через пять минут, давясь и обжигаясь, Пётр с Сашей уплетали густые, неимоверно вкусные щи с говядиной. Гостям щедро выделили порции, поэтому они наелись досыта и осоловели. Новые товарищи посмеивались:
– Ложка узка, таскает по три куска! Надо её развести, чтоб таскала по шести!
– Натощак ничего в рот не лезет, – в тон им отвечал Батырь, с хрустом разгрызая сахарную косточку.
– Сколько дён горячего не видали? – спросил егерь, подсаживаясь к ним с трубкой в завершение обеда.
– Да почитай, что шесть, – ответили Батырь, облизывая ложку. – Одну свеклу печёную хростали.[40] Чуть не сдох в сухомятку-то. С моим сложением оно особенно тяжко. Спасибо, господин Отчаянов. Вот теперь можно и поговорить.
Егерь затянулся, внимательно посмотрел на новеньких.
– Я солдат, – сказал он буднично, без всякого пафоса. – Присягал. А Москву, вишь, отдали. Мы отдали, армия. С нас и спрос. Потому, раз я тут, режу французов. Партизаны это зовётся… Ребят собрал. Тоже на Бонапарта обижены. Мы никого не обязываем. Кому что его совесть подсказывает. Вы люди партикулярные. Однако приглашаю. Поступайте в команду. Скучно не будет.
– А ежели не захотим? – осторожно поинтересовался Пётр.
– Неволить не стану. Но отсюда попрошу. На довольствии только, кто воюет.
Беглые переглянулись.
– А если согласимся?
– Тогда порядки, как в армии. Мой приказ – закон. За неисполнение расстрел. Решайте. Учтите – с нами вас могут убить. Мы без дела не сидим.
– И без вас могут убить, – махнул рукой Батырь. – Мы хоть и мухорты[41], а посчитаться хочется. Мясо они на иконах рубят, сволочь! Я им покажу, как в Москву без спросу приходить!
– Значит, остаётесь?
– Да, – ответил за обоих Пётр. – Идти нам всё рано некуда, а руки, действительно, чешутся. Поступаем под твою команду! Говори, что нам делать.
– Выходим мы по ночам, – пояснил егерь. – Это сегодня вам так свезло – за хлебом лазили. А так, как стемнеет – кто не спрятался, я не виноват!
– Много вы их уже? – поинтересовался Ахлестышев.
– Не считал, – строго ответил унтер-офицер. – Но пока из Москвы не уберутся, отпусков у нас не будет. Нынче же посмотрю вас в деле.
Как стемнело, партизаны выбрались из укрытия и направились к валам. Перед выходом Сила Еремеевич объяснил боевую задачу. В церкви Бориса и Глеба на Поварской саксонцы поставили лошадей, а в алтаре устроили отхожее место. Это рассказала жена Тюфякина. Заодно беглецы узнали и историю сидельца долговой ямы.
Федот был до войны обычным московским жителем. Ходил в церковь, пил полугар, играл с соседом в тавлею[42], торговал по мелочи скобяным товаром на Смоленской площади. Как он сам про себя сказал: ни рыба, ни мясо, ни кафтан, ни ряса… Вдруг захотелось Тюфякину стать купцом. Он занял пятьсот рублей ассигнациями у какого-то менялы, чтобы открыть извозное дело. Но деньги пропил, а дела не завёл. Меняла посадил должника во Временную тюрьму в подвалах Монетного двора, где тот и дождался прихода французов. Перед самым бегством московского начальства в тюрьму явился какой-то молодой адъютант[43]. Сидельцев оказалось более полутораста человек: мещане, дворовые, дезертиры и даже один опустившийся майор из отставных. Офицер велел освободить всех, но перед этим взял с арестантов клятву перед иконами, что они “выполнят патриотический долг”. Два десятка сидевших с ними евреев ушли просто так, без клятвы. Неудавшийся извозопромышленник не понял, насчёт какого долга он поклялся. Решил, что речь шла об тех пятистах рублях, что он обязан вернуть меняле… Ну, раз побожился, надо выполнять! Тюфякин прибежал домой, наскоро обнял жену и отправился на Красную площадь грабить Новые ряды. Чтобы было из чего возвращать кредитору… Набрал целую наволочку серебра, радостно притащил домой, а там какой-то француз заворачивает его Степаниде подол! Тюфякин выбрал из добычи жирандоль[44] потяжелее и забил им насильника до смерти. После чего пришлось мыть полы, прятать труп и упрашивать соседей не выдавать его. Одного из сожителей, взяточника-подьячего, Тюфякин однажды поколотил по пьяному делу. Теперь обиженный сосед собрался отомстить. Нечаянному патриоту пришлось пуститься в бега. Два дня он шлялся по городу, играя наперегонки с пожаром, пока не попался на глаза Силе Еремеевичу. Тот выслушал историю и принял сидельца в отряд. Тихий обыватель в мирной жизни, на войне Тюфякин оказался лихим головорезом, а жена его вела для отряда разведку. В одну из ночей егерь зашёл на Поварскую и поговорил там с подьячим. По душам. Так поговорил, что изменник под утро бежал с квартиры. Теперь сиделец иногда отлучался на ночёвку домой (тот уцелел в огне). В особняке напротив поселились саксонские гусары, а хозяев выгнали в подвал. Новые жильцы вели себя беспардонно. Партизаны решили их наказать, и за предыдущие ночи трое гусар исчезли без следа… Уцелевшие встревожились и ходили теперь только с оружием, большими группами. И вот сегодня решено было отучить их гадить в алтаре.