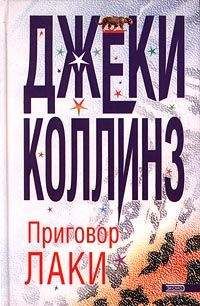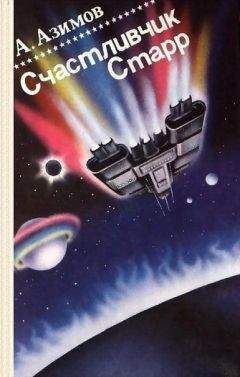Примерно за неделю до премьеры Птица устроил репетицию в студии «Нола». Многие музыканты тогда там репетировали. Когда он объявил о репетиции, никто ему не поверил. Никогда раньше он этого не делал. В первый день собрались все, кроме него самого. Мы подождали его пару часов, и кончилось тем, что репетицию провел я.
Ну вот, настал день премьеры, в «Трех двойках» полный аншлаг. Птицу мы всю неделю вообще не видели, но репетировали на отрыв. И что же — входит этот проклятый нигер с ухмылкой на роже и спрашивает, все ли готовы играть, — да еще с дурацким британским акцентом. Когда настало наше время выступать, он спрашивает: «Так что же мы сыграем?» Я ему говорю. Он кивает, отбивает такт и играет каждую нашу долбаную тему точно в том ключе, как мы ее репетировали.
В общем, играл он как бог. Не пропустил ни одного такта, ни одной ноты, ни разу не сбился с тональности. Это было нечто. Мы были ошеломлены. А его наше изумление забавляло, он только улыбался, будто хотел сказать: «Неужели вы во мне сомневались?»
Когда мы закончили то первое выступление, Птица подошел к нам и сказал — опять со своим идиотским британским акцентом: «Вы, мальчики, неплохо сегодня сыграли, только иногда с ритма сбивались и пару нот пропустили». Ну что нам оставалось — только смотреть на стервеца и смеяться. Вот такие удивительные штуки откалывал Птица на сцене. И все к этому привыкли. Было бы даже странно, если бы не произошло чего-нибудь из ряда вон.
Птица часто играл на коротких жестких выдохах. Как ненормальный. Потом Колтрейн так же играл. А Макс Роуч иногда из-за этого сбивался, оказываясь между ударными долями. Я тоже не понимал этих выходок Птицы, никогда такого не слышал. Дюк Джордан и Томми Портер, бедняги, совсем терялись, впрочем, как и все остальные, только еще больше. Когда Птица так играл, казалось, что вообще в первый раз слышишь музыку. Не помню, чтобы кто-нибудь еще так играл. Потом уж мы с Сонни Роллинзом старались изобразить что-то похожее, и еще мы с Трейном пытались выдавать такие же короткие, жесткие куски музыкальных фраз. Но когда в этой манере играл Птица, начинался беспредел. Мне не нравится слово «беспредел», но так оно и было. Он вообще «славился» своими комбинациями звуков и музыкальных фраз. Средний музыкант опирается на какую-то логику, но только не Птица. Все, что он играл — когда был в форме и по-настоящему играл, — было просто потрясающе, а я ведь слышал это каждый вечер! Нам только и оставалось, что повторять: «Нет, ты это слышал!» Потому что мы тогда уже и играть не могли. Когда он устраивал «беспредел», мы впадали в такое состояние, что только глазами хлопали. Они у нас и так были выпучены, но при этом еще шире раскрывались. И это были наши обычные рабочие дни в клубе с этим необыкновенным парнем. Сейчас это кажется почти нереальным.
Репетиции и руководство оркестром свалились на меня. Эта работа помогла мне понять, что необходимо для создания первоклассного оркестра. Говорили, что мы были самым лучшим бибоповым коллективом в округе. Так что я гордился своим положением музыкального директора. Мне в 1947 году еще и двадцати одного не было, а я уже очень неплохо ориентировался в музыкальном бизнесе.
Птица не любил рассуждать о музыке, только один раз я слышал его спор с моим другом- музыкантом, который играл в классической манере. Птица говорил, что с аккордами можно делать все, что угодно. Я не соглашался с ним, доказывал, что нельзя играть ре-бекар в пятом такте блюза в си-бемоле. А он говорил, что можно. Однажды на концерте в «Бердленде» я слышал, как Лестер Янг это проделал, он таки взял эту ноту. Птица был там, когда это произошло, и торжествующе посмотрел на меня: «Я же говорил тебе». Но это и все, больше он на эту тему не распространялся.
Он знал, что такие вещи можно делать, потому что сам их проделывал. Но показывать, как, он никому не собирался, ничего подобного не допускал. Предоставлял тебе возможность научиться самому, а если не можешь — ну, значит, не можешь, и все тут.
Именно так я и учился у Птицы, перенимая его исполнение — или неисполнение — музыкальных фраз и идей. Но, как я уже говорил, мы никогда долго с ним не разговаривали, не более пятнадцати минут, разве только когда из-за денег ругались. Я ему прямо говорил: «Птица, хватит меня надувать». Но он все равно не унимался.
Я никогда не был поклонником Дюка Джордана как пианиста, да и Макс тоже, но Птица все равно держал его в оркестре. Мы с Максом хотели пригласить Бада Пауэлла. Правда, он к Птице не пошел бы, они с Птицей не ладили. Птица заходил домой к Монку и пытался переговорить там с Бадом, но тот сидел и молчал, словно язык проглотил. Бад выходил на сцену в черной шляпе, белой рубашке, черном костюме, черном галстуке, с черным зонтом — в общем, все у него было продумано — и ни с кем не разговаривал, кроме меня и Монка, если тот там оказывался. Птица упрашивал его присоединиться к нам, а Бад просто смотрел на него и пил. Даже ни разу не улыбнулся Птице. Просто так сидел среди публики, пьяный как свинья, да еще и накачанный. Бад крепко сидел на игле, в этом отношении он был похож на Птицу. Но пианистом он был гениальным — лучшим из всех в бибопе.
Макс часто ссорился с Дюком Джорданом из-за того, что тот сбивался с ритма. Макс злился ужасно и готов был кулаками вразумить Дюка. А Дюк его не слушал и продолжал играть по- своему. Если Птица что-нибудь выкидывал, он сразу терял темп. За ним начинал сбиваться и Макс, если я не отбивал для него такт. Тогда Макс орал Дюку: «Заткнись, скотина, со своим пианино, опять все мне сбил, твою мать».
В мае 1947 года во время записи пластинки для фирмы «Савой» мы заменили Дюка Джордана на Бада Пауэлла. Кажется, эта пластинка называлась «Charlie Parker All Stars». Там играли все наши музыканты, кроме Дюка. Я написал тему для этого альбома, она называлась «Donna Lee», это было мое первое сочинение, записанное на студии. Но на самой пластинке композитором был указан Птица. Это не его вина. Просто фирма грамзаписи ошиблась, но деньги мне заплатили.
Когда мы делали эту запись для «Савоя», Птица был связан контрактом с «Дайэл Рекордз», но, если ему вдруг что-то приспичит, он ни перед чем не останавливался. Кто ему в тот момент платил, с тем он и имел дело. В 1947 году Птица записал четыре альбома, где я участвовал, — кажется, три для «Дайэл» и один для «Савоя». В тот год он был страшно активным. Некоторые считают, что 1947 год был для Птицы в творческом отношении самым продуктивным. Мне по этому поводу сказать нечего — я не люблю такие заявления. Знаю только, что в тот год он отлично играл. Но он и потом отлично играл.
Благодаря «Donna Lee» я познакомился с Гилом Эвансом. Он услышал ее и пришел к Птице договориться поработать с ней. Птица сказал, что это не его мелодия, а моя. Гил хотел взять у меня ноты, чтобы сделать аранжировку для оркестра Клода Торнхилла. Так мы с Гилом и познакомились. Я сказал ему, что пусть делает свою аранжировку, а мне взамен даст копию аранжировки Клода Торнхилла пьесы «Robin's Nest». Он достал ее для меня, и через некоторое время, поговорив и, так сказать, прощупав друг друга, мы поняли, что мне нравится, как Гил пишет музыку, а ему нравится моя игра. Звуки мы воспринимали одинаково. Правда, мне не особенно понравилось, что Торнхилл сделал с аранжировкой Гила «Donna Lee». Они играли слишком медленно и манерно, не в моем вкусе. Но я чувствовал большой потенциал в аранжировках и сочинениях Гила и спокойно отнесся к их обработке «Donna Lee», хотя она меня и раздражала.
Так или иначе, запись для «Савоя» с Птицей была моей лучшей работой на тот момент. Я играл увереннее и постепенно вырабатывал свой собственный стиль, уходя от влияния Диззи и Фредди Уэбстера. Именно выступления в «Трех двойках» с Птицей и Максом помогли мне найти свой голос. В оркестр приходили самые разные музыканты, и нам все время приходилось приспосабливаться к разным стилям. Птицу такая ситуация вполне устраивала, да и меня тоже в основном. Но все же меня больше интересовало качество звучания нашего оркестра, а не ежевечерние посиделки с разными лабухами. Но Птица был взращен на этой традиции в Канзас- Сити и продолжал ее в клубе «Минтон» и в «Горячей волне» в Гарлеме, ему это всегда нравилось, он блаженствовал. Но если к нам приходил хреновый музыкант, весь оркестр тянуло назад.
Мои ежевечерние выступления с Птицей на 52-й улице помогли мне записать собственную пластинку, которая называлась «Miles Davis All Stars». Я сделал ее для «Савоя». Чарли Паркер играл на тенор-саксофоне, Джон Льюис на пианино, Нельсон Бойд на басу и Макс Роуч на ударных. Мы пришли в студию в августе 1947 года. Я сочинил и аранжировал четыре темы для альбома: «Milestones», «Little Willie Leaps», «Half Nelson» и «Sippin' at Bell's», мелодия о баре в
Гарлеме. И еще я записался в альбоме с Коулменом Хокинсом. Так что в 1947-м я был при деле.
Айрин вернулась в Нью-Йорк с двумя детьми, и мы поселились в новой квартире в Квинсе, которая была намного просторнее старой. Я нюхал кокаин, пил и немного покуривал. Марихуану я никогда не курил, она мне не нравилась. Но к героину я тогда еще не успел пристраститься. Между прочим, Птица как-то сказал мне, что если узнает, что я колюсь, то прикончит меня. Но самым ужасным гимором тогда были толпы женщин, осаждавших оркестр и меня. По-настоящему я тогда еще с ними не связывался — был настолько увлечен музыкой, что даже Айрин на меня не действовала.