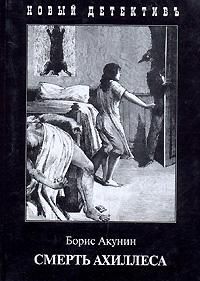Ознакомительная версия.
Генерал-губернатор выслушал эту короткую, эффектную речь с приоткрытым ртом. Эраст Петрович ждал крика, возмущения, расспросов о доказательствах, но князь ничуть не утратил спокойствия. Когда обер-полицеймейстер выжидательно замолчал, князь задумчиво дожевал кусок, отхлебнул кофею. Потом укоризненно вздохнул.
— Очень плохо, Евгений Осипович, что вам это в голову не приходило. Вы ведь как-никак начальник московской полиции, столп законности и порядка. Я вот не жандарм, и делами загружен побольше вашего, все многотрудное городское управление на себе тащу, а Петрушку Хуртинского давно на подозрении держу.
— Неужто? — насмешливо спросил обер-полицеймейстер. — Это с каких же пор?
— Да уж порядком, — протянул князь. — Петруша мне давно нравиться перестал. Я еще три месяца назад отписал вашему министру, графу Толстову, что по имеющимся у меня сведениям надворный советник Хуртинский — не просто мздоимец, а вор и лиходей. — Князь зашелестел бумажками на столе. — Вот и копия где-то была, письмеца моего… Да вот. — Он поднял листок, помахал издали. — И ответец от графа был. Где же он? Ага. — Взял другой листок, с монограммой. — Прочитать? Министр меня полностью успокоил и велел из-за Хуртинского не тревожиться.
Губернатор надел пенсне.
— Послушайте-ка. «На могущие возникнуть у Вашего высокопревосходительства сомнения касательно деятельности надворного советника Хуртинского спешу заверить, что этот чиновник ежели подчас и ведет себя труднообъяснимым образом, то отнюдь не из преступных видов, а лишь выполняя секретное государственное задание сугубой важности, о чем ведомо и мне, и Его Императорскому Величеству. Посему хотел бы успокоить вас, дражайший Владимир Андреевич, и особо оговорить, что задание, исполняемое Хуртинским, никоим образом не направлено против…» M-м, ну да это уже к делу не относится. В общем, господа, сами видите — если здесь кто и виноват, то отнюдь не Долгорукой, а скорее ваше, Евгений Осипович, ведомство. Разве у меня могли быть основания не доверять министерству внутренних дел?
От потрясения обер-полицеймейстер потерял выдержку и порывисто поднялся, протянул руку к письму, что было довольно глупо, потому как в столь серьезном деле мистификация исключалась — слишком легко проверить. Князь благодушно протянул листок рыжему генералу.
— Да, — пробормотал тот. — Это подпись Дмитрия Андреевича. Ни малейших сомнений…
Князь участливо спросил:
— Неужто вас начальство не сочло нужным известить? Ай-ай-ай, нехорошо это. Неуважительно. Стало быть, вы не знаете, что за таинственное задание исполнял Хуртинский?
Караченцев молчал, совершенно сраженный.
Фандорин же размышлял над интригующим обстоятельством — как получилось, что переписка трехмесячной давности оказалась у князя под рукой, среди текущих бумаг? Вслух же коллежский асессор сказал:
— Мне тоже неизвестно, в чем заключалась секретная деятельность г-господина Хуртинского, однако на сей раз он явно вышел за ее пределы. Его связь с хитрованскими бандитами несомненна и никакими государственными интересами оправдана быть не может. А главное: Хуртинский имеет явное касательство к смерти генерала Соболева.
И Фандорин коротко, по пунктам, изложил историю похищенного миллиона. Губернатор слушал очень внимательно. В конце решительно сказал:
— Мерзавец, очевидный мерзавец. Надо его арестовать и допросить.
— За тем мы к вам, Владимир Андреевич, и п-пришли.
Совершенно иным, чем прежде, тоном — молодцевато, почтительно — обер-полицеймейстер осведомился:
— Разрешите исполнять, ваше высокопревосходительство?
— Конечно, голубчик, — кивнул Долгорукой. — Уж он, негодяй, за все ответит.
По длинным коридорам шли быстро. Сзади громыхали в ногу агенты в штатском. Эраст Петрович не произнес ни слова и вообще старался на Караченцева не смотреть — понимал, как мучительно тот переживает свое поражение, а еще более неприятный и даже тревожный факт: оказывается, есть какие-то тайные дела, которые начальство предпочло доверить не московскому обер-полицеймейстеру, а его извечному сопернику, начальнику секретного отделения губернаторской канцелярии.
Поднялись на второй этаж, где располагались присутствия. Эраст Петрович спросил дежурившего у входа служителя, здесь ли господин Хуртинский. Выяснилось, что у себя, с самого утра.
Караченцев воспрял духом и еще больше ускорил шаг — несся по коридору пушечным ядром, только шпоры позвякивали да постукивали аксельбанты.
В приемной начальника секретного отделения было полным-полно посетителей.
— На месте? — отрывисто спросил генерал у секретаря.
— Точно так-с, ваше превосходительство, однако просили не беспокоить. Прикажете доложить?
Обер-полицеймейстер отмахнулся. Оглянулся на Фандорина, улыбнулся в густые усы и открыл дверь.
Сначала Эрасту Петровичу показалось, что Петр Парменович стоит на подоконнике и смотрит в окно. Но уже в следующее мгновение стало ясно: не стоит, а висит.
Глава одиннадцатая,
в которой дело принимает неожиданный оборот
Владимир Андреевич Долгорукой, сдвинув брови, уже в третий раз читал строки, набросанные хорошо знакомым почерком: «Я, Петр Хуртинский, повинен в том, что из алчности совершил преступление против долга и предал того, кому должен был верно служить и всемерно помогать в его многотрудном деле. Бог мне судья». Строки были кривые, налезали одна на другую, а последняя и вовсе заканчивалась кляксой, будто писавший вконец ослаб от избытка раскаяния.
— Так что показал секретарь? — медленно спросил губернатор. — Перескажите еще разок, и пожалуйста, голубчик Евгений Осипович, поподробней.
Караченцев уже во второй раз, более связно и спокойно, чем в первый, изложил то, что удалось выяснить:
— Хуртинский пришел на службу, как обычно, в десять часов. Выглядел обыкновенно, никаких признаков расстройства или возбуждения секретарь не заметил. Ознакомившись с корреспонденцией, Хуртинский начал прием. Примерно без пяти одиннадцать к секретарю подошел жандармский офицер, представился капитаном Певцовым, курьером из Петербурга, прибывшим к надворному советнику по срочному делу. У капитана в руке был коричневый портфель, по описанию в точности соответствующий похищенному. Певцов был немедленно впущен в кабинет, прием посетителей приостановлен. Вскоре выглянул Хуртинский и велел никого больше до особого распоряжения не впускать и вообще ни по какому поводу не беспокоить. По словам секретаря, его начальник выглядел чрезвычайно взволнованным. Минут через десять капитан удалился и подтвердил, что господин надворный советник занят и отвлекать строго-настрого запретил, поскольку изучает секретные бумаги. А еще через четверть часа, в двадцать минут двенадцатого, появились мы с Эрастом Петровичем.
— Что сказал врач? Не убийство ли?
— Говорит, типичная картина самоповешения. Привязал на шею веревку от фрамуги и спрыгнул. Характерный перелом шейных позвонков. Да и записка, сами видите, повода для сомнений не дает. Подделка исключается.
Генерал-губернатор перекрестился, философски заметил:
— «И бросив сребренники в храме, он вышел, пошел и удавился». Нынче судьба преступника в руце Судии более праведного, чем мы с вами, господа.
У Эраста Петровича возникло ощущение, что подобная развязка князю как нельзя более кстати. Зато обер-полицеймейстер явно пал духом: думал, ухватил драгоценную ниточку, которая выведет его к целому золотому клубку, а ниточка возьми да оборвись.
Сам коллежский асессор размышлял не о государственных тайнах и межведомственных интригах, а о загадочном капитане Певцове. Совершенно очевидно, что именно этот человек за сорок минут до появления в приемной Хуртинского выманил у бедного Масы соболевский миллион. С Малой Никитской жандармский капитан (или, как склонен был полагать Фандорин, некто, переодетый в синий мундир) отправился прямиком на Тверскую. Секретарь рассмотрел его лучше, чем адъютант обер-полицеймейстера и описал так: рост примерно два аршина семь вершков, широкие плечи, соломенные волосы. Особая примета — очень светлые, почти прозрачные глаза. От этой детали Эраст Петрович поежился. В юности ему довелось столкнуться с человеком, у которого были точно такие же глаза, и Фандорин не любил вспоминать ту давнюю историю, обошедшуюся ему слишком дорого. Впрочем, тягостное воспоминание к делу не относилось, и он отогнал мрачную тень прочь.
Вопросы выстраивались в такой очередности. Действительно ли этот человек жандарм? Если да (и тем более, если нет), то в чем его роль в соболевском деле? Главное же — откуда такая дьявольская осведомленность, такая фантастическая вездесущесть?
Ознакомительная версия.