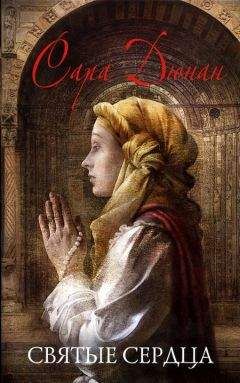В тишине, которая воцарилась за ее словами, мне померещились аплодисменты совсем других слушателей, а именно: клириков, банкиров или ученых, которые, наевшись и напившись до отвала, наслаждаются тонкостями спора с прекрасной женщиной, в котором изящное приправлено грубым, — искусством подобных споров моя госпожа владела в совершенстве. Сейчас же ей никто не хлопал. Поверили ли ей? Для меня ее речь прозвучала вполне убедительно. Но это было совершенно не важно. Пока они оставались на местах. Никто даже не шевельнулся.
Фьямметта набрала воздуху в грудь.
— Для тех, кто хочет уйти, есть дверь.
Она выждала.
Наконец повар встрепенулся с ворчаньем:
— Я там один кручусь. Если вам нужна хорошая еда, пришлите девчонку мне в помощь.
— Она не готова. Придется тебе взять в помощники одного из мальчишек. Дзаккано! Не сердись, вы ненадолго разлучаетесь. Ты, Джакомо, приготовь свечи. Мне нужно, чтобы с наступлением сумерек свет горел повсюду. Ты, Адриана, ступай нарядись. Возьми из моего сундука синее платье с высоким воротом и надень атласные домашние туфли подходящего цвета. Положи немного румян на лицо, но только совсем немного! Ты должна выглядеть мило, но не соблазнительно! И не трать на прихорашивание целый день.
Девушка, которая, казалось, разрывается между радостью и ужасом, побежала к лестнице. Когда комната опустела, Фьямметта опустилась на стул во главе стола и оказалась в конусе солнечного луча, отчего мне стали видны мельчайшие капельки пота у нее на лице.
— Мастерская работа, — произнес я тихонько. — Теперь никто не уйдет.
Она пожала плечами и прикрыла глаза.
— Тогда, возможно, смерть ждет их здесь.
Мы немного посидели, вслушиваясь в постепенно нараставший шум с улицы. Вскоре горстка пропащих душ превратится в поток безумцев.
Сомнения по-прежнему висели в воздухе. Я лишь озвучил их:
— Сумеем ли мы?
Она тряхнула головой.
— Как знать? Если они и в самом деле так измучились от голода и усталости, как уверяет молва, тогда у нас есть надежда. Будем молить Бога об испанцах. Я не встречала еще ни одного испанца, которому плотские радости жизни не были бы дороже благочестивых мыслей о смерти. Если же это окажутся лютеране, тогда нам лучше сразу вцепиться в четки и понадеяться на мученический венец. Но сначала я проглочу все свои драгоценности.
— Зачем? Чтоб высрать их потом в аду и подкупить стражников?
Ее звонкий смех вселил в меня искорку надежды.
— Не забывай, Бучино, — я же все-таки кардинальская куртизанка! У меня достаточно индульгенций, чтобы очутиться не ниже, чем в Чистилище.
— А где же тогда уготовано местечко карлику кардинальской куртизанки?
— Ну, тебе хватит места и под сорочкой кающейся грешницы, — ответила она, и в тот же миг над уличным гулом возвысился чей-то голос, и до нас долетело несколько искаженных, но узнаваемых слов: «Casas nobiles… ricas. Estamos aqui».[2]
Враг, похоже, прибыл. Если милосердие исходит от Бога, то некоторые уверяют, что удача — от дьявола, а уж он-то своих всегда спасает. Мне же известно одно: в тот день весь Рим стал ристалищем, где вершились судьбы множества людей, и потом, когда мертвые тела сбрасывали в общие ямы, выяснилось, что невинных созданий погибло не меньше, чем уцелело грешников. О том, к какому роду людей относились мы, я предоставляю судить другим.
Госпожа поднялась и оправила юбку: казалось, принаряженная хозяйка дома выступает навстречу долгожданным гостям.
— Будем надеяться, их начальник недалеко отстал. Мне бы не хотелось попусту красоваться в лучшем своем парчовом наряде перед солдатней. Ступай-ка, пригляди за Адрианой. Если она будет выглядеть как барышня, а не как служанка, то, быть может, проживет дольше. Впрочем, нарочитая невинность нас тоже погубит.
Я шагнул к лестнице.
— Бучино!
Я оглянулся.
— Ты еще не разучился жонглировать?
— Чему сызмальства научился, того никогда не забудешь, — ответил я. — А чем жонглировать прикажете?
Госпожа улыбнулась:
— Нашими жизнями.
Им понадобилось больше времени, чем мы предполагали, чтобы добраться до нас. Впрочем, грабежи и насилия всегда отнимают много времени, а им ведь столько всего встречалось на пути! Почти смеркалось, когда я, стоя на крыше, увидел, как они врываются на нашу улицу. Из-за угла с ревом выбежало человек девять или десять: полураздетые, с черными дырами разверстых ртов, размахивая мечами и неистово дергаясь в разные стороны, они походили на тряпичных кукол, которых дергал за ниточки сам дьявол, заставляя плясать на свой лад. Вслед за ними показалась еще дюжина с лишком солдат, волочивших телегу, доверху нагруженную всяким добром, а позади ехал верхом какой-то человек — если он и был их вожаком, то сейчас явно не возглавлял первые ряды.
Дойдя до нашей маленькой площади, они ненадолго остановились. В городе было полно богатых домов — с запертыми дверьми, с окнами, скрытыми под ставнями. Кое-кто уже пошатывался. В Риме вино было гораздо лучше, чем в уже разоренных ими унылых окрестностях, и, должно быть, тут они хлестали его бочками. Вдруг какой-то великан из задних рядов испустил громкий вопль, схватил с телеги топор, обеими руками занес его высоко над головой и, немного покачиваясь на бегу, обрушил его на оконную раму дома на углу, принадлежавшего торговцу пряностями. Оглушительный треск эхом разнесся по всему зданию, а в ответ изнутри послышались испуганные крики. На эти звуки, точно мотыльки на огонь, слетелись остальные. Дюжине молодцов понадобилось минут десять, чтобы очистить себе путь в дом купца. А те, кто позади, между тем обводили глазами площадь. Капитан готов был спешиться, когда я спустился с крыши, чтобы позвать госпожу. Но двор внизу уже опустел, и я успел вернуться как раз вовремя, чтобы услышать, что подо мной отпираются главные ворота, и увидеть сверху, как она выходит на окутанную сумерками площадь.
Что же они увидели, когда ворота распахнулись и из них показалась моя госпожа? В течение всей своей жизни Фьямметта Бьянкини была постоянным и заслуженным объектом мужского восхищения, и восхищение это чаще всего приносило вполне вещественные плоды, добрая часть которых ныне покоилась в больших сундуках, надежно схороненных под свиным пометом. Но сейчас окинем ее простым взглядом — таким, каким смотрели на нее эти мужчины. Она была высока ростом — такими рослыми бывают только богатые женщины, привыкшие ездить верхом с высоко поднятой головой, — и она была прекрасна. Кожа гладкая и белая, как алебастр, груди, едва прикрытые лифом из золотой парчи; таковы были притворно-скромные ухищрения соблазна в городе, населенном богачами, давшими обет безбрачия и вынужденными изображать добродетель, хотя многие из них и расхаживали по улицам, едва не протыкая рясу бесстыдно торчащим удом, будто древком.
Глаза у нее были зеленые, как весенняя поросль, губы — полные и алые, а щеки покрывал персиковый румянец. Но настоящей красавицей ее делали волосы. Ибо волосы моей госпожи напоминали золотую реку в пору половодья, а их оттенки были богаты, как шум вод, — потоки светлого золота и подсолнечника смешивались с медом и красным каштаном, и это причудливое и одновременно естественное зрелище ясно говорило: это дар Божий, а не плод опытов с аптекарскими жидкостями. А поскольку на пальце у нее не было кольца, а в доме — супруга, то, занимая гостей, она носила свои волосы вольготно распущенными, так что вечерами, когда она запрокидывала голову, заливаясь смехом или притворяясь обиженной, этот роскошный покров волос взлетал вослед голове, — и если ты находился поблизости, то можно было поклясться, что само солнце снова показалось ради тебя одного.
Конечно же эти неотесанные деревенщины, от которых разило смертью и винным перегаром, застыли как вкопанные при ее появлении. В Риме в ту пору было достаточно красоток, многих из них делала еще привлекательнее податливая добродетель, и каждая из таких красоток сумела бы подобно прохладному напитку утолить жажду изнуренных мужчин. Но мало у кого был такой же ум, как у моей госпожи, — острее зубочистки, и мало кто проявлял такую хитрость, когда предстояла схватка.
— Добрый вечер, воины Испании! Вы пришли издалека — добро пожаловать в наш великий город. — Голос у нее был ровным, а красноречие отточено на горсточке щедрых испанских купцов и странствующих церковников. Хорошая куртизанка умеет соблазнять на многих языках, и Рим наставлял в этом искусстве лучших из них. — Где ваш командир?
Всадник на другом конце площади уже разворачивался, но другие были ближе. Ее голос словно разрушил чары, и солдаты уже двинулись к ней, и тот, что впереди, с ухмылкой протягивал руки, словно в ликующей мольбе, а нож придавал ему еще больше обаяния.
— Я — командир, — заявил этот мужлан грубым голосом, а за его спиной зафыркали и загикали остальные. — А ты, я вижу, — папская шлюха.