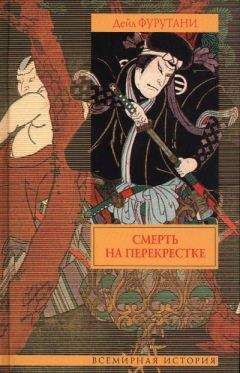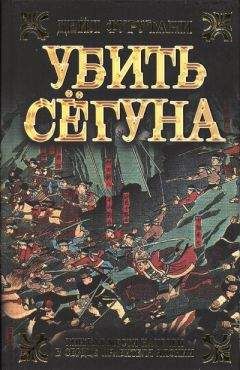Кровавыми слезами умывалась матушка Аой, покидая дочь в крепком доме старика.
— Он теперь муж твой законный. Будь ему хорошей женой, детка, — вот и все, что сумела выговорить она, прощаясь с девочкой.
— Иди уж! — огрызнулся с напускной суровостью отец, хватая ее за руку. — Девочке радоваться надобно: мы ж не в веселый дом ее продали, хоть там за нее не в пример больше б дали! Она ныне — мужняя жена, женщина уважаемая.
Аой стояла на пороге и смотрела вслед уходящим родителям, пока хоть что-то сквозь слезы разглядеть могла. А мужнина тяжелая рука стальными щипцами сжимала ее худенькое запястье — не побежала б дуреха за отцом и матерью! А потом, когда родителей уж и след простыл, Аой слезы утерла и за работу домашнюю принялась. Вымыла, выскребла дочиста весь не знавший женских рук дом. Крестьянин дверь закрыл и сидел, смотрел, как она работает. Покончивши с уборкой, состряпала и подала она мужу обед. Тот человек строгих правил был, вместе с собой ей есть не дозволил. И смотрела голодная девчонка с жадностью, как отправляет он в рот кусок за куском, отдувается и пояс ослабляет, чтоб, значит, на брюхо не сильно давил. Сглатывала слюнки. И глазам своим не верила — есть же на свете, оказывается, такое несусветное изобилие еды, какое ей и во сне не снилось! А после того как супруг насытился, настала очередь его молодой жены. Аой, как волчонок, глотала, жевала и снова глотала, все никак наесться не могла — боги великие, впервые за столько-то месяцев!
Каша из проса и темного риса горячая была, вкусная до ужаса, а к ней еще — вволю и соленой редьки, и маринованных овощей, и сладкого картофеля! Аой ела и ела, миску за миской в единый присест заглатывала и надивиться не могла — надо же, еды-то сколько! И делиться ни с кем не надо — ни с братьями, ни с сестричками! Столько в себя втиснула, что последнюю миску на середине отставила — забурчало в животе от непривычного ощущения переедания.
Посидела с минутку — и вдруг вскочила на ноги, настежь распахнула дверь. Старик сначала решил, что она сбежать решила, — схватил за руку. Но Аой — откуда только силы взялись! — неведомо как вырвалась и стрелой выбежала из дома. Только не собиралась она бежать. Просто хотела поскорее до уборной добраться. Понимала уже — не сдержит ее привыкший к голоду желудок всю эту бесконечную еду. Вырвет ее сейчас. К несчастью, до уборной далековато оказалось…
Примерно на середине пути подступило. Упала девчонка на четвереньки и принялась мучительно извергать из себя огромные комья непереваренного обеда — прямо на кусты, которыми дорожка к нужнику обсажена была. Муженек за ней побежал. Намотал волосы супружницы на руку — дескать, блюй себе на здоровье, а вот удрать и не думай! Аой выворачивало долго и страшно, минуту за минутой, пока в желудке не опустело. И только потом смогла она кое-как сесть на землю и отдышаться — из глаз слезы текут, во рту вкус рвоты отвратительный, и очень голова болит — крепко муж в волосы вцепился.
Наконец Аой с трудом поднялась на ноги и побрела, шатаясь, к дому. Крестьянин сзади шел. Одной рукой по-прежнему за волосы держал, другой в спину подпихивал. У девчонки голова кружилась, слабость одолевала невероятная — свернуться бы сейчас в клубочек где-нибудь в темном углу да уснуть! Но какое там! У мужней жены и еще одна обязанность есть…
Расстелил крестьянин на полу не первой свежести футон. Грубо толкнул на него Аой. Трясущимися жадными руками задрал на ней кимоно и навалился сверху.
Аой в крестьянской семье росла — знала, в общем, как детишек делают, насмотрелась на скот домашний. И как в этом смысле мужчины устроены — тоже, конечно, знала прекрасно. Еще бы, семья огромная, столько младших братишек, и всех она нянчила, купала, а когда совсем крохи были — и пеленки им меняла! Но ничего из того, что знала она в девичестве, не подготовило Аой к ужасу, пережитому в первую брачную ночь со старым крестьянином. Она лежала, каменея от страха и отвращения. Во рту кисло от рвоты, тяжелое вонючее мужское тело давит — не продохнуть, а между ногами — больно, ровно ножом режут. После муж захрапел, а она, тринадцатилетняя женщина, смирнехонько лежала рядом и молча плакала до утра.
В первый раз Аой рога мужу наставила, когда ей всего пятнадцать было. Как и все, верно, крестьяне от самого сотворения мира, жили люди селения Судзака, подчиняясь естественным ритмам природы. Поднимались на рассвете, работали до заката. Когда приходила зима и горный их край засыпало непроходимыми снегами, тоже не сидели сложа руки. Пока длились недолгие дни, у себя в полутемных домах, поеживаясь от холода, подновляли да чинили нехитрый свой инвентарь, готовя к весенней пахоте. Зимой и мебель какую-никакую сколачивали, и миски деревянные вырезали, и корзины, и веревки травяные плели, — ну, словом, ремесленничали кто как умел, все хозяйству польза.
В Судзаке, как и во всяком горном селении, рис урождался не так чтоб очень. Питались местные неприхотливо, все больше овсом, просом и чечевицей, собирали немало папоротника, съедобных кореньев да грибов, коих, хвала богам, в лесах окрестных предостаточно было. Оттого и считалась довольно зажиточная, в общем, Судзака деревней весьма бедной, что в землях Ямато рис — те же деньги. Богатство и статус даймё зависели от величины налога, который крестьяне провинции его ежегодно рисом выплачивать были обязаны. Да и за товары, за услуги здесь — не то, что в городах больших! — чаще всего либо другими товарами, либо рисом чистым платили. Мало денег наличных у крестьян водилось.
Купцы, самураи благороднорожденные да ремесленники городские — у тех, конечно, звонкой монеты в достатке — и медяков, и серебра, и даже золота. А крестьяне — люди простые, для них богатство — это корзины, до краев белым рисом наполненные: хочешь — сажай, а хочешь — ешь!
Летом в деревне жить — привольно, весело: едва не каждый день — либо праздники, либо гулянья. А в хорошие времена гулянья в настоящие пиршества превращаются. Перепьются все до одури… Мужчины спьяну дерутся, парни с девчонками влюбленные в лес удирают, бродят до утра, милуются, а то и еще что, тут уж не уследишь. И какая же пирушка крестьянская без соленых шуточек, похабных песенок и шумных танцев, зачастую тоже не вполне пристойных, имитирующих то животных спаривающихся, а то и людей!
В неурожайные годы, когда с едой да выпивкой плохо, — тогда, ясно, и праздники скромнее. Только храмовые и отмечают, торжественно, но строго, без пьянок и бурного веселья. Земля японская множество богов ведает. В каждом доме божеств да духов-защитников хватает — одни очагам покровительствуют, другие — колодцам, третьи — кухням. И чем более суровые и голодные настают времена, тем важнее почтить каждого из богов, дабы вымолить на будущее хоть малость покоя и преуспеяния.
Муж Аой старый уже был, седой совсем. Поначалу жена молоденькая его как-то взбодрила, пробудила силу мужскую, но как попривык он к ее юности и красоте — вовсе о радостях постельных позабыл. Вот и не устояла она на второй год супружества — удрала во время пирушки по случаю праздника Хиган[17] от праздничного стола с красивым восемнадцатилетним соседом — тоже, кстати, женатым и сынишку уже имевшим. Ускользнули они на несколько минут на первое попавшееся поле — и предались там плотским забавам. То-то подивилась Аой, обнаруживши, что с красивым молодым парнем она испытывает ничуть не больше удовольствия, чем со старым мужем! Впрочем, кое-что приятное в случившемся все-таки было — гребень, который парень ей после в руку всунул. Хоть и простой, деревянный, а — подарок! Мысль о том, что мужчина за радость лечь с женщиной готов делать ей подарки, раньше никогда в голову Аой не приходила. Но в эту ночь началась ее неофициальная карьера местной веселой девицы.
Аой минуло уже семнадцать, когда какая-то добрая душа просветила ее муженька, откуда у его хорошенькой супруги берутся все эти бесконечные наряды, гребни и деньги на побрякушки, появлению коих он немало дивился. Однако, к изумлению ее, старику было совершенно наплевать. Только махнул рукой да сказал:
— Ну, тут уж ничего не поделаешь…
Когда же Аой двадцать три сравнялось — все, помер наконец муженек, отмучилась она. Стала сама себе хозяйка — и с землей недурно управлялась, и попутно еще зарабатывала, ублажая односельчан или случайно забредших в селение путников. Пытались молодой вдовице другого мужа подыскать — она на дыбы встала, отстояла свою свободу и продолжала подрабатывать, чужих мужей втайне развлекая. А как в здешних местах бандиты силу набирать стали — ну, наступили для Аой золотые деньки. Вольные молодцы — парни щедрые, за любовь большие деньги готовы платить. Уж до того дела ее распрекрасно пошли, что и на поле работать не надо стало. Еду ведь и купить можно!
Одно только не нравилось Аой в бандитском лагере — всякий раз сначала с самим господином Куэмоном ложиться приходилось, а потом уж парней его принимать. Нет, вообще-то больше чем на несколько минут предводителя бандитов не хватало — стоило Аой раз-другой застонать, якобы от наслаждения великого, тут ему конец и приходил! (Странно — такой сильный, крепкий, а как до этого дела доходит, так поди ж ты!) Нет, насчет ублаготворения господина Куэмона Аой особо грустных чувств не испытывала. Возмущало другое — этот мерзавец не желал ей платить! Так и заявлял — это, мол, она вроде как налог платит на право заниматься своим ремеслом с ребятами из его шайки!