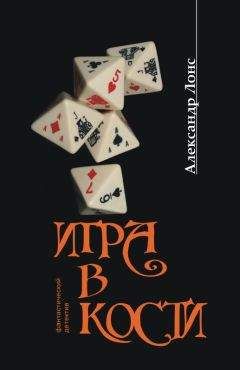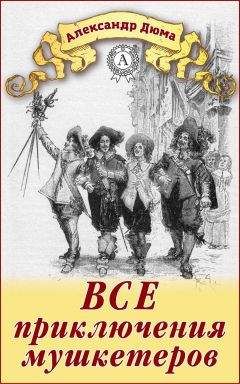Если приглядеться, человеческих следов на ней не наблюдалось вовсе, а лишь кружковатые, с когтями, причем неприятно большие.
День почти совсем померк, и кусты с деревьями сомкнулись тесней. Заблудился, понял Митридат. И еще понял, что здесь, в зимней чаще, прочитанные книги и мудрые максимы не помогут. Глупей всего, что вдруг вспомнилась песенка, которой мучила глупая нянька в первые, молчаливые годы Митиной жизни: «Придет серенький волчок и ухватит за бочок». Так и увидел наяву, как за тем вон кустом вспыхивают два фосфоресцических огонька, а потом на тропинку бесшумной тенью выскакивает и сам Canis lupus, столь распространенный на русской равнине, подпрыгивает на своих пружинных лапах и впивается острыми зубами прямо в бок.
Куст взял и вправду шевельнулся. Ойкнув, Митя шарахнулся в сторону, потерял эквилибриум и упал. Никакой это был не волк, а большая птица. Видно, сама напугалась — заполоскала серыми крыльями, вспорхнула кверху, заухала.
Нога! Ой, больно!
Потерпел немножко, снегу пожевал, вроде полегче стало. Но когда попробовал встать, закричал в голос. Ступить на ногу не было никакой возможности.
Сломал, не иначе.
Кое-как дополз до ближайшего дерева, сел спиной к стволу.
Это что же теперь будет, а?
Вот когда следовало испугаться — не по-младенчески, серого волчка, а по-настоящему, по-взрослому, ибо скорое окончание собственной жизни обрисовалось перед Митиным рассудком во всей строгой и логической очевидности: идти невозможно, надвигается ночь, и если не загрызет волк или рысь, всё одно часа через два замерзнешь насмерть.
Но, может, оттого, что смертная погибель выглядела такой неминучей, страха Митя не ощутил. Скорей для очистки совести, нежели для проверки, попробовал подняться еще раз, убедился, что ни идти, ни даже стоять не может. Подумал — не поползти ли назад? Отверг. Больно долго бежал, а потом шел, столько не проползешь. Да и к чему? Ну, выберешься к тракту, так в темное время по нему все равно никто не ездит. Замерзнешь на обочине. Единственное утешение, что не лисы с воронами сожрут, а подберут люди и похоронят. Что Мите, жалко для лис и воронов своего мертвого мяса? Пускай едят. А чем попусту пресмыкаться, последние силы тратить, не лучше ль на манер римского мудреца Сенеки или премудрого Сократеса подготовиться к разгадке земного бытия с достоинством? Смерть от холода, описывают, нисколько не мучительна. Станет клонить в сон, и уснешь, и боле не проснешься.
Вот когда мудрые книги-то пригодились. Жизнь себе с их помощью, может, и не спасешь, зато умирать легче.
И Митя повернулся на спину, стал умирать — вдыхать лесной воздух, подводить итог. Лежать было мягко, удобно и пока что, с разогрева, нехолодно, а мысли текли плавно и даже не без некоей приятности.
Что ж, прожил Митридат-Дмитрий Карпов на земном яблоке недолго, семь лет без одного месяца. Но все же дольше, чем большинство нарождающихся на свет человеков, из коих каждый третий помирает в первую неделю, а каждый второй в первые два года младенчества. Выходит, Митя против большинства еще и счастливец. Опять же, прошел свой путь не в сумраке пробуждающегося рассудка, а при ярком свете полного разума, что и вовсе удача почти неслыханная. Столько узнал, столько для себя открыл, столько передумал, постиг законы природоустройства. Когда понимаешь сии естественные установления, то и страшиться особенно нечего. Вначале, согласно законам физики, текущие по твоим жилам жизненные ликвиды под воздействием низкой температуры остановят свой ток, что разлучит душевную субстанцию с телом. Потом в действие вступят законы химии, и организм, прежде именовавшийся Митей, начнет разлагаться на элементы. Но, вероятно, еще прежде того проявят себя законы биологии, приняв вид зубов и клювов лесной живности.
По насту неслась легкая пороша, понемногу присыпала валенки и тулупец. Митя сначала стряхивал, после бросил. Зачем?
Начали стынуть ноги, а некоторое время спустя вроде бы и перестали.
Мысли утратили четкость, но от этого сделались еще приятнее, как бывает перед погружением в сон. Было тихо-тихо, только поскрипывали ветки да шуршала ленивая поземка. Митя поднял глаза.
В промежутке меж серыми кронами чернело небо. Что там, за ним? Вдруг показалось, что, если получше всмотреться, непременно увидишь. Только надо поторопиться, пока из замерзающего тела не отлетела душа.
Он прищурился, и небо качнулось ему навстречу. Митя сначала удивился, но обнаружил, что удивляться тут нечему. Оказывается, он уже не лежал на земле, а парил в воздухе, меж острых верхушек елей, и это было замечательно хорошо. Посмотрел вниз — там, на снегу, вроде бы и в самом деле кто-то лежал, но смотреть на него было неинтересно, небо манило куда больше. Митя повернулся к нему лицом, и оно стало стремительно приближаться. Странно, оно было всё такое же черное, даже еще черней, но вовсе не темное. Он понял: просто в небе таится такой яркий свет, что смотреть больно, от этого на глазах пелена. Поразительно, как он раньше этого не замечал. Чем выше поднимался Митя, тем больше глаза привыкали к этому сгущенному сиянию, и вот уже он летел не через черноту, а через янтарный свет, и что-то начинало просвечивать там, впереди — не то круг, не то некое отверстие. Митя сделал усилие, чтоб лететь еще быстрее, так ему не терпелось побыстрей разглядеть, что это за штука.
И он услышал голос — скрипучий, древний-предревний. Голос произносил что-то неразборчивое, но явно звал его, Митю. Однако именовал не Митей, а каким-то другим, не известным ему прозванием.
— Маалой, — взывал голос. — А, Маа-лой!
Стало быть, такое здесь, на небе, у него будет имя? Сначала был Дмитрий, потом Митридат, а отныне Маалои?
Он раскрыл глаза пошире и увидел: то, что издали представлялось ему кругом или отверстием, на самом деле — лик.
Вглядевшись в это лицо, он задрожал — такое оно было страшное: сморщенное, с косматыми седыми бровями, загнутым носом, а посередь носа бородавка.
И чудесный свет вдруг померк, снова стало темно. Митя заклацал зубами от холода и увидел, что вовсе он не на небе, а на снегу, под черными елями, а над ним склонилась жуткая старуха, вся замотанная в грязные платки.
— Малой, эй, малой, — проскрипела она своим дребезжащим голосом. — Ты чего? Примерз? Ну-тко, ну-тко. — И потянула к нему свои костлявые пальцы.
Это Баба Яга, понял Митя, нисколько не удивившись, однако перепугался сильно, еще больше, чем давеча волка. Костяная нога, седые усищи, железны зубищи. Еще премудрый Д'Аламбер писал (или барон Гольбах? — голова промерзла, утратила ясность), что не всё в народных преданиях суеверие и вымысел. Сказочные драконы, к примеру, суть воспоминание о старинных пресмыкающихся, некогда населявших планету, и ныне остовы тех чудищ в разных местах откапывают. Вот и Баба Яга, выходит, не суеверие, а всамделишная лесная ведьма.
Сил сопротивляться злым чарам не было. И когда Баба Яга, кряхтя, взвалила Митю себе на закорки, он только жалобно захныкал. Она же тащила его куда-то — должно быть, за темные леса, за синие озеры, в черные болота, в глубокие норы — и ворчала:
— Ишь чижолый. Куды чя? До мельни? Не шдюжу, не молодайка. А вот я чя к Даниле-угоднику, ага. Пушкай он, Данила. Ага.
Смысла ее заклинаний он не понимал, ибо от холода, слабости и страха мозг совсем перестал источать мыслительную эманацию. Осталось только дикое, темное, из самого раннего детства: сейчас Баба Яга приволочет добычу в свою избушку на курьих ножках и сожрет, а косточки выплюнет.
Уйти на достойный, античный манер не получилось. Жизнь оканчивалась как-то очень по-русски, очень по-детски и ужас до чего страшно.
Митя тихо заплакал. Хотел маменьку позвать и даже увидел ее будто наяву — всю розовую, пахнущую фиалковой эссенцией, но маменька сидела перед зеркалом и не оглянулась на свое злосчастное чадо.
Ведьма положила пленника на снег посреди небольшой поляны. Приподнявшись, он увидел бревенчатый сруб с крошечным слюдяным оконцем, в котором горел противоестественно яркий свет. Курьих ног под избушкой Митя не разглядел — наверно, их снегом засыпало.
Старуха громко постучала в дверь железным кольцом, потом вдруг подхватила подол и с нежданной прытью припустила в чащу. Миг — и ее не стало, исчезла во тьме.
От диковинного поведения ведьмы Митя перепугался еще больше, хотя, казалось, куда уж больше-то?
Это она меня в подарок принесла, в подношение, догадался он. Некоему чудищу, которое над ней властвует, а стало быть, еще страшней ее. Кто там у няньки Малаши из лесной нечисти был кроме Бабы Яги? Лесной Царь, вот кто. Который к людям, проезжающим через лес, сзади тихонько в телегу садится и малых деточек крадет. Как она напевала, Малаша-то? «Царь Лесной подсядет, Митеньку покрадет».
Лязгнула дверь, и Митя увидел перед собой Лесного Царя.