— Этот свой доклад, порвав его, Зейдлиц потом выбросил в мусорную корзину, а я незаметно достал обрывки и дома подклеил их, — сказал Иван Дмитриевич. — К концу вечера ему пришлось признать ошибочность своей версии. Хотя кое-что он угадал верно.
— Что, например? — спросил Сафронов.
— Например, то, что Каменский и жена Довгайло состояли в интимных отношениях.
— Да, — покивал Мжельский, — у меня сразу вызвала подозрения та песня с рефреном «я вспоминаю тебя». Похоже было, что эти слова относятся не к Монголии, а к самой Елене Карловне.
— Ну-у,-разочарованно протянул Сафронов. — если окажется, что Каменский застрелился из-за любви или Довгайло ухлопал его из ревности, я прячу голову под крыло и не желаю знать правду. Лучше соврите, но подыщите что-нибудь менее банальное.
— Не выйдет,-ответил Иван Дмитриевич. — Когда идешь «путем всея земли», трудно найти на этой дороге что-то такое, чего никто до тебя не находил.
Могильным холодом тянуло сквозь половицы веранды. Прямо за столом Иван Дмитриевич вскипятил на спиртовке кофе, чтобы согреться самому и взбодрить слушателей.
— А на следующий день, при обыске на квартире Довгайло, — продолжал он, — я нашел припрятанную в укромном местечке тетрадь с записками Елены Карловны. Среди прочего там излагались обстоятельства, при которых она познакомилась со своим будущим мужем.
Затем отрывок из ее воспоминаний был если не процитирован, то пересказан близко к тексту и от первого лица:
«Родилась я на Урале, в городе Кунгуре Пермской губернии. Мой отец преподавал маркшейдерское дело в горнозаводском училище, но, когда мне было шесть лет, его за пропаганду сослали в Якутскую область. Там он вскоре умер от пневмонии. В Якутии, говорила мама, вечная мерзлота, наш папочка лежит в земле целый и невредимый, совсем как живой, только мертвый, и так будет лежать миллион лет, пока не растают льды на Северном полюсе. В детстве я представляла его могилу похожей на дворец Снежной королевы или на Бриллиантовый грот в пещере под Кунгуром. Эта едва ли не самая большая и загадочная из европейских пещер находилась в получасе ходьбы от нашего дома. Никто не знал, на сколько верст протянулись ее лабиринты, ни один человек не прошел их до конца. Поговаривали, будто конца у них вообще нет. Относительно неплохо известны были только ближайшие к входу коридоры и гроты, в том числе Бриллиантовый. По сводам, отражая пламя факелов, искрились купы льдистых кристаллов, но, если постоять подольше или поднять факел повыше, хрусталики быстро таяли, гасли, с мелодичным шорохом срывались вниз, невесомо-звонкими иглами рассыпались на полу, и слезы вдруг подступали к глазам, так странно сочетались вечность и хрупкость в их ломких прозрачных тельцах.
Я слушала эту ледяную музыку сама по себе, мама — вместе с Петром Францевичем. Он тогда приехал из Петербурга и все лето прожил в Кунгуре, пытаясь найти якобы спрятанные в нашей пещере буддийские реликвии. Будто бы они были посланы из Урги в дар Екатерине Великой, но возле Кунгура на монголов напали башкиры из отрядов Пугачева, убили их, ограбили, добычу зарыли где-то в пещере да так и не откопали. Местные старики подтверждали эту легенду, но рассказывали ее несколько иначе. По их словам, нападавшие вышли прямо из пещеры, потом вернулись туда с трофеями, и больше их никто никогда не видел.
Этот вариант Петру Францевичу нравился почему-то больше. Он нанял троих парней, лазил с ними под землей, вел раскопки, чертил какие-то карты. В то время он был еще молод, весел, беден и, когда у него кончились деньги, стал подрабатывать тем, что водил в пещеру представителей городской интеллигенции или приезжих из Перми и Екатеринбурга. На такие экскурсии мама ходила с ним и брала меня с собой. Их познакомила мамина подруга, у которой Петр Францевич снимал комнату. Начался бурный роман, о чем я узнала позднее, хотя догадывалась уже тогда. Он всерьез увлекся мамой, после отъезда еще с полгода писал ей. Больше они не виделись. Бедная моя мамочка! Она умела отдаваться сердечным бурям, но в глубине души все-таки продолжала считать, что самое прекрасное в любви — это завтрак вдвоем.
Через пятнадцать лет, сгорая от рака, мама лежала без сознания, вдруг лицо ее прояснилось, и она произнесла фразу, поразившую меня несовпадением слов и смысла, выраженного этими словами. «Темно, — сказала она просветленно, тихо и радостно. — Боже мой, как темно!» Я вторые сутки дежурила у ее постели. В то же мгновение у меня закружилась голова, я провалилась в сон, и там, во сне, это была уже не я, а она, мама. Мы с Петром Францевичем стояли в Бриллиантовом гроте, в том месте, где он всегда говорил экскурсантам: «Сейчас, господа, мы потушим факелы, и вы увидите настоящую темноту, не такую, как в запертой комнате без окон или в лесу в безлунную ночь. Там есть крупицы света, просто наш слабый глаз их не различает, а здесь, как во мраке адских пропастей, слепнут и кошка, и сова…» Погасли факелы, Петр Францевич нашел мои губы, и мы поцеловались в двух шагах от наших ни о чем не подозревающих спутников. В беспросветной тьме он износил семь пар железных башмаков, сорвал с петель медные засовы и проник в башню, где томилась моя озябшая грудь с бесстыдно набухшим соском. Они на ощупь узнали друг друга и замерли, хотя нельзя было терять ни минуты, в соседней башне ждала еще одна пленница. Он рванулся туда напролом, но бесстрастно звучал его голос: «Башкиры, господа, ранее населявшие территорию Кунгурского уезда, почитали эту пещеру как священное лоно матери-земли, откуда явились в мир их предки. Весной тут совершались языческие игрища, весьма, надо сказать, нескромные…»
Влага сочилась по стенам божественного лона. Столетия текли в подземной мгле, как секунды. Мой затвердевший сосок был зажат между пальцами Петра Фраицевича. Пока, направляемый большим пальцем, он катился по верхней фаланге указательного, от начала подушечки до ногтя, чье прикосновение было как вспышка молнии, надвинулся и отступил ледник, вымерли мамонты, башкиры приняли ислам и сожгли в устье пещеры своих идолов. Снова загорелись факелы. Экскурсанты, отвыкнув от света, жмурились, а мы с Петром Францевичем — нет. В той тьме, где слепнут и кошка, и сова, нам двоим светило солнце, вскоре, увы, потухшее.
Похоронив маму, я вернулась в Петербург на свои акушерские курсы, и буквально в тот же день мне попалось на глаза объявление о публичной лекции, которую должен был прочесть Петр Францевич. После лекции я подошла к нему. Он меня не узнал. Я произнесла: «Кунгур, пещера…» Он испугался, будто я сказала что-то такое, чего никому не следует знать. Объяснений я не получила ни тогда, ни потом, хотя впоследствии поняла причину его испуга. К тому времени он второй год вдовел, но привычка скрывать от жены свои измены перешла у него в суеверную надежду на то, что, если здесь все будут молчать об этом, его былая неверность останется тайной для нее и на том свете. Впрочем, он быстро овладел собой. Мы поговорили о маме, он проводил меня до дому. Через месяц я вышла за него замуж и на свадьбе впервые увидела Николая Евгеньевича.
Год спустя мы с мужем устраивали у себя вечеринку по случаю какого-то кафедрального юбилея. Николай явился без жены. Было много молодежи, и в конце вечера затеяли играть в «чугунный мост». Со смехом и шуточками гости начали вставать на четвереньки, выстраиваясь в линию, мужчина против женщины. Каждая пара изображала две половинки мостового пролета, которые должны соединиться при помощи поцелуя. Это называлось: всадить винт. В суматохе Николай протиснулся ко мне, мы одновременно опустились на пол, глядя в глаза друг другу, но с поцелуем не спешили. Я торопливо дожевывала то, что было у меня во рту, а нам уже кричали: «Мост рушится! Эй вы, мост рушится!» Пришлось поцеловаться. Он неуклюже ткнулся мне в угол рта своими напряженными губами, и сердце у меня вдруг ухнуло, словно в самом деле висим, сцепившись, над бездной, далеко внизу кипит и пенится ледяная черная река…»
Из записок Солодовникова
Гряда невысоких бесплодных гор, вдоль которой мы ехали вот уже вторые сутки, неожиданно раздвинулась, открывая прорезавшее скалы ущелье. До него было не более версты, но Баир-ван, поглядев на небо, решил не торопиться. И точно, гроза разразилась раньше, чем мы успели бы выбраться на ту сторону гряды. В этом случае нас просто смыло бы стремительно хлынувшим по ущелью потоком.
Пришлось переждать дождь, присев под брюхом у лошадей. Часа через два мы попытались приблизиться к ущелью, но там, где недавно петлял жалкий ручеек, вода с грохотом вырывалась из теснины и разливалась по камням. Огромные пласты глины обрушивались вниз, а потом всплывали в желтой пене, сталкиваясь и налезая друг на друга. Это было похоже на любовные игры ископаемых водяных чудовищ с мокрой и блестящей кожей.
Оставив обоз и артиллерию на месте, мы сделали объезд верст в шесть и вернулись к тому же ущелью, но южнее. Здесь оно расширялось, да и вода уже начала спадать, можно было ехать по краю мелеющего на глазах потока. Стали попадаться заболоченные участки с зарослями мохнатого тростника и низкорослого красного тальника, иногда из-под копыт вспархивали утки. Выше, в расщелинах серого гнейса, ютились голуби. Какие-то мелкие суетливые птахи, перелетая с камня на камень, возбужденно пересвистывались, будто не переставали удивляться, что в этих гиблых местах можно, оказывается, жить, добывать пропитание, выводить птенцов.



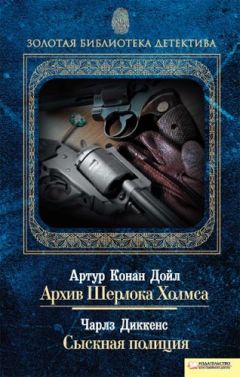

![Константин Путилин - Шеф сыскной полиции Санкт-Петербурга И.Д.Путилин. В 2-х тт. [Т. 1]](https://cdn.my-library.info/books/33302/33302.jpg)