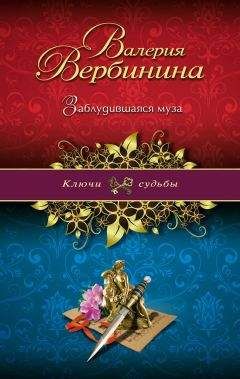Ознакомительная версия.
– Но он стреляет?
– Ну… да.
– Это все, что мне нужно…
Через несколько дней Зимородков вызвал Леденцова к себе.
– Гиацинт Христофорович, садитесь, голубчик… Нет-нет, я сам затворю дверь. Дело вот в чем: расследование завершено, но… Я предлагаю все-таки его продолжить. Понимаете, Амалия Константиновна вчера сказала одну вещь, которая заставила меня задуматься…
– Вы все же надеетесь взять Курагина? – спросил Леденцов после паузы.
– Скажу вам больше: я сочту личным для себя оскорблением, если этот молодчик будет разгуливать на свободе.
Леденцов поднялся с места и протянул Зимородкову руку.
– Александр Богданович, располагайте мной, как сочтете нужным… Я с вами.
Чиновник молча пожал Гиацинту руку, но тот видел, что Зимородков тронут.
– Я узнал, что этот прохвост собирается съездить в Финляндию вместе с супругой. Что ж, май – весьма подходящее время для путешествия…
– Какова цель его поездки? – быстро спросил Леденцов.
– У него там имение с великолепным видом. Он купил его через несколько месяцев после убийства Никитиной, – мрачно добавил Александр Богданович.
…В купе первого класса молодая беременная женщина читала французский модный журнал. В дверь постучали. На пороге стоял носильщик с небольшой подушкой. У его ног прикорнул огромный чемодан.
– Это не наши вещи, – сказала дама удивленно, опуская журнал.
– А вы, сударыня…
– Я Ольга Курагина. Нет, это не наши вещи, вы, верно, ошиблись…
Через несколько минут Максим Васильевич (он отходил за сигаретами) вернулся в купе.
– О… Оля! Оленька!
Полулежа на бархатном диване, его жена билась в последних конвульсиях. На ее груди расплывалось кровавое пятно. На другом конце дивана, ближе к выходу, валялся дешевый револьвер.
– Оля! – закричал Курагин, еще не веря, что вся его жизнь в это мгновение рушится окончательно и бесповоротно, и отныне уже ничто не будет так, как было прежде. – Боже мой! На помощь! Помогите!
Не соображая, что делает, он схватил револьвер, и тут случилось нечто ужасное. Дрянное дешевое оружие подпрыгнуло в его пальцах и от толчка выстрелило. Пуля попала Ольге в голову. Молодая женщина перестала биться и стала сползать вниз…
Однако за мгновение до выстрела, услышав крики адвоката, в купе ворвались двое людей в штатском. Это были Александр Зимородков и Гиацинт Леденцов.
– Ее убили! – закричал Максим Васильевич, бросаясь к ним. – Убили, вы понимаете? Боже мой!
– Да, Максим Васильевич, – кивнул Зимородков, ловко вынимая револьвер из его пальцев. – Мы с господином Леденцовым видели, как вы только что застрелили свою жену. Это произошло на наших глазах.
Адвокат окаменел.
– Но я… Это не я! Не я, понимаете? Я любил ее! Я жизнь бы за нее отдал… Револьвер сам выстрелил! Сам!
– Я понимаю, что трудно остановиться, когда все всегда сходило с рук, – холодно сказал Зимородков. – Говорят, вас недавно видели на ипподроме с певицей Кирсановой.
– Я просто беседовал с ней…
– Неужели? И после этой беседы вы решили избавиться от своей жены? Что, убить ее оказалось проще, чем просить развода?
Понимая, что ему не верят и скорее всего не поверят уже никогда, Курагин застонал и повалился на колени, уткнувшись лицом в платье мертвой жены…
А на другом конце вокзала человек, переодетый носильщиком, содрал с себя униформу, обернул ее вокруг простреленной подушки, сыгравшей роль глушителя, и быстрым шагом двинулся прочь.
Выстрелив в жену адвоката, он ощутил такой ужас, что выронил оружие, попятился из купе и бросился прочь. Отчаяние и паника подгоняли его. Ему было мучительно плохо с самим собой, но раньше, когда он думал о том, что действия Курагина останутся неотомщенными, было еще хуже.
Он ощущал себя убийцей и был готов к тому, что первый же городовой неминуемо арестует его. Но никто не обращал на него внимания, не считая девушек-работниц, которые поглядывали на молодого привлекательного человека с улыбкой.
После того, что он совершил, Владимир Павлов хотел только одного: добраться до своей квартиры и застрелиться. Но майский день был так хорош, что мысли о смерти как-то незаметно отступили на задний план.
Он шел, чувствуя, как мало-помалу успокаивается бешено пульсировавшая в артериях кровь, и думал о том, что в жизни у него никого не было, кроме Ольги Верейской. Ветреная, легкомысленная, неверная, она все же единственная по-настоящему любила его, и когда ее у него отняли – так, мимоходом, ни за что, если вдуматься, – он почувствовал себя так, словно у него вырвали душу.
Раньше его ужаснула бы одна мысль о том, чтобы обидеть женщину, а теперь он поймал себя на том, что лишь пожимает плечами, думая об убийстве Ольги Курагиной. Нет, он не собирался ее убивать. Он хотел убить ее мужа. Но адвоката в купе не оказалось, он куда-то исчез. Зато оказалась эта женщина, которая равнодушно поглядела на него, одетого носильщиком, и сказала, что ее зовут Ольга.
…И он убил ее, не раздумывая.
А что, в сущности, такого? Он мучился, рыдал, запершись в комнате, чтобы никто не видел его страданий и не разболтал о них (как многие люди, которых считают слабовольными, Владимир на самом деле был очень горд). После того, как он похоронил Ольгу, заняв денег везде, где только можно, он чуть не сошел с ума, страдал ужасно, невыносимо, думал о самоубийстве, – так пусть Курагин теперь тоже помучается. Пусть гадает, кто из родственников его жертв сумел до него добраться. Ольга за Ольгу – разве это не справедливо? Разве женщина, сидевшая в купе, не пользовалась плодами преступлений своего мужа?
И когда корнет прочитал в вечерней газете, что адвокат Курагин застрелил жену, чтобы соединиться с известной певицей, разбившей не одно сердце, Владимир совершенно успокоился и понял, что судьба на его стороне. Он достал золотую папиросницу, которую Оленька хотела подарить ему на день рождения, закурил папиросу и, глядя на темнеющее над мостами небо, стал думать обо всем, что могло бы у них быть и чего теперь уже не будет никогда.
– А Лидия Сергеевна-то как волнуется!
– И не говорите… Накануне генеральной устроила истерику, что позумент на пачке у госпожи Герман, которая танцует принцессу, пошире… а ведь главная партия у Малиновской…
– Осторожнее, черти, промускатон[14] не заденьте!
– Не волнуйтесь, Карл Федорович, все будет как надо…
– Будет? Будет? Не будет, а должно быть! Химики! Химики! Что там со светом? Смотрите у меня…
– Алексей Иванович, – не удержалась Амалия, – а почему осветители в театре называются химиками?
– Почему? Почему… гм… Потому что освещение газовое, а газ – это химия…
– Химики, чтоб вас!
– Карл Федорович, здесь дамы!!
– Приношу свои извинения, сударыня… Но химики… вечно химичат!
Маленький бешеный Вальц – великий Вальц, которого выписали из Москвы специально для постановки «Золотой розы», – пыхтел, как вулкан, бегал так быстро, что порой возникало впечатление, что он находится в нескольких местах одновременно, и ругался, на зависть любому возчику, погоняя рабочих и осветителей. Чигринский, сопровождаемый верным Прохором, метался между гримерок с выражением блаженного ужаса на лице, а Азарян, который сдержал свое слово и должен был дирижировать на премьере и на последующих представлениях, в привычной для него иронической манере рассказывал кому-то из гостей за кулисами:
– В императорских театрах случаются на редкость оригинальные администраторы… Слышали о Майкове, двоюродном брате поэта? Нет? Так вот, подали ему однажды бумагу, что нужны музыканты на пульты вторых скрипок. Майков обиделся и кладет начальственную резолюцию: «Императорский театр достаточно богат, чтобы иметь только скрипки первые…»
К Нередину подбежал помощник режиссера и, жестикулируя, стал ему что-то горячо говорить.
– Что там такое? – нетерпеливо спросил Чигринский.
– Критику из «Русского слова» забыли билет прислать… скандал!
– Я не выдаю билеты, – с вызовом сказал Дмитрий Иванович, дергая шеей. Он взмок, нервничал и мечтал только об одном – чтобы все как можно скорее закончилось и была бы хоть какая-то определенность: провал или успех. – Засуньте его в клоповник, что ли…
– Дмитрий Иванович, – возмутился помреж, – русское слово не может сидеть в клоповнике!
– А клоповник – это что? – с любопытством поинтересовалась Амалия у поэта и по совместительству автора либретто.
– В зале рядом с партером есть свободное пространство, куда пускают зрителей с контрамарками, когда все битком… Фамильярно его и называют «клоповник».
– Вы, кажется, совсем не волнуетесь, Алексей Иванович, – не удержавшись, заметила Амалия.
Поэт метнул на нее быстрый взгляд.
– Это только одна видимость, госпожа баронесса, – сказал он после паузы.
Ознакомительная версия.