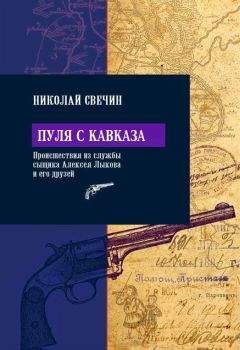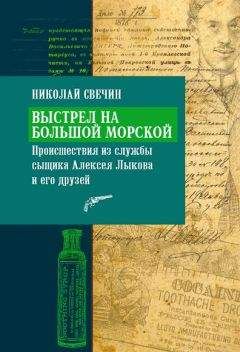Сыщик повернулся к офицерам, сказал добродушно:
– Можете пока покурить. Надо дать им время намазать пятки салом.
– А нечего курить, отобрали всё, – сказал Ильин, и вдруг лицо его дрогнуло. – Живы… Я ведь уже…
Он сел на чурбан, обхватил голову руками и застыл так; по лицу его катились слёзы.
– Извините. Так страшно было…
– Ещё бы не страшно, – проворчал Лыков. – Я чуть не обделался…
Капитан овладел собой, поднялся. Мундир на нём был разорван, на голой мускулистой груди белели пузыри ожёгов.
– Спасибо вам, Алексей Николаевич. Не верил, скажу честно, что вы вернётесь.
– Это Мелентию Лавочкину спасибо. Спас он нас с вами. А сам погиб…
Все трое замолчали. Вдруг Лыков услышал, как умирающий Лемтюжников что-то бормочет.
– Тихо!
Он подошёл к старику, прислушался. Тот лежал на спине, из груди его слабеющим ручейком сочилась кровь. Устремлённые в пещерный свод глаза дезертира, недавно ещё такие злобные, сделались умиротворёнными. Это было так удивительно и не уместно в столь страшном человеке, что сыщик растерялся.
– Налинька… Налинька…[138] – чуть слышно шептал Лемтюжников. – Любовь моя, светик мой… скоро уж свидимся…
Ильин тоже подошёл, прислушался, пожал плечами:
– Невероятно. Такое чудовище – и кого-то тоже любило…
– А ну его, – махнул рукой Таубе. – Пойдёмте лучше казаков выручать из лагеря.
– Хватился! – хихикнул Лыков. – Зря, что ли, я шапками бросался? Абреки сейчас уже на перевале. Пока до Грузии не добегут – не остановятся. Давайте лучше лошадей здесь всех соберём. Пригодятся.
И, не опасаясь, вышел из пещеры наружу. Он не ошибся – вокруг было уже пусто.
Вниз по Аварскому Койсу шла партия. Впереди ехали Таубе, Лыков и Ильин; за ними три казака с урядником сопровождали двух своих раненых. Это было всё, что осталось от отряда в двадцать ружей, выступившего почти месяц назад из Темир-Хан-Шуры…
Замыкали колонну несколько горцев, нанятых для услуг. Они везли замотанные в кошмы тела Лемтюжникова и Малдая. В Гунибе их опознают – и зароют в безымянной могиле. Третье тело было Мелентия Лавочкина; Лыков постановил доставить его на родину, в станицу Слепцовскую, и передать родителям. Артилевского похоронили на кладбище аула Дагбаш. Войсковой старшина был одинок; какая тогда разница, где лежать?
Ещё в обозе находился обширный архив старика в жёлтой чалме. Разведочное отделение в Тифлисе будет весьма радо этим документам. Таубе бегло ознакомился с ними и убедился: бумаги помогут устранить всю турецкую резидентуру на Кавказе.
Изменилась и обстановка в ослабевшем отряде. Казаки не забыли своей вины, и во всём теперь старались услужить капитану. А Лыков, помня его скупые искренние слёзы в пещере, пропитался к Ильину самыми добрыми чувствами. Ожоги, нанесённые раскалённой кочергой Лемтюжникова, заживали плохо. Куски омертвевшего мяса на груди капитана загноились и причиняли ему сильные страдания, но он держался мужественно. Однако требовалось быстрее доставить пострадавшего до госпиталя.
В десяти верстах перед аулом Датуна они встретили спешившую им навстречу сильную военную колонну. В голове её шёл полковник Бонч Осмоловский. Длинные седые усы начальника Гунибского округа грозно трепыхались на ветру, стеклянный глаз сверкал на солнце, словно бриллиант. Следом ехал казак Панченков. Терцы встретили товарища радостными криками.
Прямо на горной тропе произошла трогательная встреча двух отрядов. Таубе сообщил полковнику о выполнении задания Военного министерства, и передал тела резидента и предводителя абреков. Рассказал подробно и о гибели Артилевского. Бонч Осмоловский весьма расстроился – они служили вместе много лет. Барон вручил начальнику округа игреневого жеребца, знаменитый кинжал, набор дорогих азарпешей и восемьсот рублей, что обнаружились в вещах покойного. Вещи и коня Бонч взял на память о товарище, а деньги вручил уряднику Недайборщу – пусть разделит среди своих казаков на помин души Эспера Кирилловича. Ещё полковник послал людей забрать тело Артилевского и перезахоронить его на русском кладбище в крепости Гуниб. Терцам поручено было также сжечь до основания лагерь абреков в котловине; у людей Таубе сил на это уже не достало.
Лыков ехал и вспоминал. Месяц назад он заявил генерал-адъютанту Обручеву, что в компании барона Таубе «готов отправиться хоть к чёрту в пасть». Так оно и вышло. Они с другом побывали у нечистого в самой глотке, и только мужество простого казака спасло их жизни… Таубе и Лыков бывали до того в самых опасных переделках, много раз смотрели в глаза смерти. Но в холодных дагестанских горах их ожидало особенное испытание… Страшная мучительная погибель от рук озверелых абреков едва миновала сыщика и разведчика. Никто и никогда не отыскал бы их останков. Оба сгинули бы навеки совершенно безвестно, и Варенька никогда так и не узнала бы, как умер её любимый супруг. А сыновья выросли бы без отца, тщетно пытаясь вспомнить хоть его лицо…
Там, в жуткой пещере, Лыков испытал настоящий страх, какого не ведал уже много лет. Ужас бессилия, ожидание мучений на какое-то время полностью лишили Алексея его привычного мужества. И он не мог понять теперь, чего больше боялся в тот час: страданий и смерти, или потери достоинства в глазах товарищей…
Через два дня отряд Таубе вошёл в крепость Гуниб. Столица обширного округа являлась островком русской жизни посреди чужого туземного мира. Они помылись в солдатской бане, закупили «очищенной» в лавке у армянина, а ночевали на постелях с чистым бельём.
Утром следующего дня Таубе и Лыков прощались во дворе крепости со ставшими им родными казаками. Недайборщ в последний раз выстроил перед ними свой изрядно поредевший взвод. Терцы уходили в свою станицу Слепцовскую, и забирали с собой тело Мелентия Лавочкина. По такому случаю разведчик и сыщик надели все свои награды. На двоих у них вышло семь орденов, столько же медалей, плюсом две иностранные цацки у барона и, у него же, золотое оружие. Начальник отряда и его помощник очень благодарили казаков с урядником. Те вынесли на своих плечах тяжкую ношу, потеряв в схватках половину товарищей.
Таубе проводил взвод до Карадаха. У него были на то свои причины – он хотел повидаться с Атаманцевой. Между ними состоялся решающий разговор.
– А где Алексей Николаевич? – первым делом спросила эскулапка. – С ним всё в порядке?
– Слава Богу, он в добром здравии; передаёт вам поклон. Алексей Николаевич примерный семьянин, он счастлив в браке, у него двоё очаровательных сыновей. Он не придёт.
– А вы, барон, стало быть, пришли, – с усмешкой констатировала Лидия Павловна, раскуривая папироску.
– Я пришёл.
– Для чего, позвольте полюбопытствовать?
– Завтра я должен отбыть в Темир-Хан-Шуру, и оттуда в Петербург…
– Счастливого пути!
– Спасибо. Интересы службы не позволяют мне задержаться в Дагестане ни на день. Но, как только я отдам рапорт начальству, то испрошу отпуск и приеду сюда опять. На этот раз за вами.
– Что значит за мной?
– За вами, чтобы увезти вас в Петербург.
– И в качестве кого, любезный Виктор Рейнгольдович? – рассмеялась Атаманцева. – В качестве очередной вашей любовницы?
– Нет, Лидия Павловна. Я прошу оказать мне честь и стать моей женой.
Докторша опешила. Сделав несколько быстрых затяжек, она бросила папиросу в бронзовую пепельницу и отошла к окну, скрывая лицо. Таубе стоял по стойке «смирно», ни жив, ни мёртв… Прошло несколько тягостных для него минут.
– Как же вы себе это представляете? – наконец, спросила Атаманцева напряжённым голосом, не оборачиваясь.
– Ну… придётся переменить квартиру. У меня маленькое холостяцкое жильё в Четвёртой линии Васильевского острова. Вдвоём там будет тесно. Должен сразу предупредить: я не богат и существую исключительно службой.
– Да? – Атаманцева наконец повернулась к барону лицом. – Что же вы тогда имеете мне предложить?
– Свою любовь, Лидия Павловна. Руку, сердце и честное имя. Навсегда.
Подполковник был серьёзен, категоричен и взволнован. И в глазах у женщины что-то дрогнуло… Насмешка ушла с её лица, а взамен появились неуверенность и, вместе, надежда.
– Но вы же понимаете, Виктор Рейнгольдович, что я не та гурия, «которой не касался ни человек, ни джин»[139]. Я женщина со своей историей.
– Очень хорошо это понимаю, Лидия Павловна.
– И?
– И повторяю своё предложение. Я не тороплю вас с ответом. Подумайте. Но… очень прошу не отказывать.
– Да ведь я ещё политически неблагонадёжна! Мне запрещён въезд в столицы.
– Полагаю, мне удастся исправить эту несправедливость.
– Хм… А вы не забыли, что я «жевешка»? Или надеетесь, что став баронессой Таубе, я приучусь чесать языки в столичных гостиных?
– Вы станете делать то, что сочтёте нужным. Будет единственное требование с моей стороны, но оно не подлежит обсуждению.