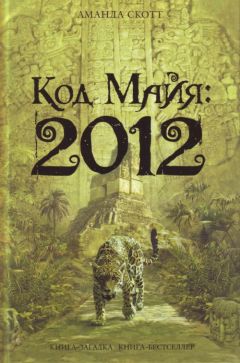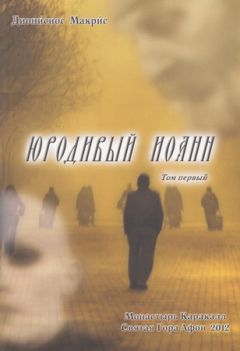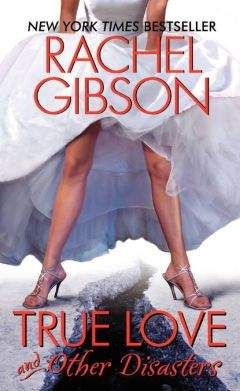— Нет, не здесь, а там, — сказала Наджакмал, указывая на нужное место, — Над огненным кругом мозаики. Именно там ты должен зажечь свой живой огонь.
Под суровыми взглядами Наджакмал и трех ее сыновей он сел на корточки и вставил прут в тетиву лука, стараясь повторить ловкие движения Диего.
Никто из них не стал смеяться, за что он был им благодарен. Оуэн потел и ругался, раз за разом перехватывал тетиву лука, проклинал все на свете, но, когда садящееся солнце осветило край пирамиды, ему удалось извлечь тонкую струйку дыма, а потом он заметил, как расцветает крошечное пламя, начинает жадно пожирать волосы на его склоненной голове, а также мелкие кусочки сухого мха и травы, которые он осторожно подкладывал в огонь. Оуэн испытал невероятное удовлетворение, поскольку успел забыть детскую радость овладения новым умением.
Дым от костерка был полон ароматами джунглей. Глаза Оуэна начали слезиться. Диего и его браться собрались у него за спиной, откуда дул легкий ветерок. Под защитой их тел пламя наконец начало набирать силу. Казалось, желтые плитки мозаики приняли огонь в себя, и теперь пламя пылало глубоко в земле и на вечернем небе.
В какой-то момент огонь стал ярким, словно тускнеющее солнце, и Диего наклонился через плечо Оуэна и вложил в его руки пучок травы и листьев.
— Сожги это. Выпей дым.
Пучок ярко вспыхнул и загорелся высоким голубым пламенем, цвета живого камня. Дым получился тонким и едким, он скользнул в его горло, наполняя сердце и растекаясь в груди, согревая и делая легким, поднимая к небесам. Он пил и пил, а когда дым кончился, Оуэн об этом пожалел.
— Встань. Смотри. Слушай.
Он встал. Он смотрел. Он слушал мир, в котором каждый вздох каждого животного в джунглях становился ему понятен, словно его уши всю жизнь были забиты ватой и открылись только сейчас.
Со всех сторон доносилось пение разноцветных птичек, чистое, как звон хрусталя; слева и высоко над головой он услышал шелест крыльев бабочки, подобный шуму оперения летящего ворона; он слышал шорох чешуи ползущей по стволу дерева змеи.
И еще Оуэн понял, что прежде его зрение было крайне примитивным. Раньше он думал, что джунгли ослепляюще радужны. А теперь он видел оттенки цвета внутри оттенков и был действительно ослеплен. Он мог бы навсегда потеряться в единственном лучике света, отразившемся в глазу птицы, в прожилках свисающего листа или в бесконечных плитках мозаики, которые уже воспринимал как единое целое, как живой образ, затаивший дыхание перед концом мира.
У него закружилась голова, и он начал опускаться на колени, чтобы получше разглядеть одинокий голубой цветок, пробившийся сквозь бирюзовые камни на лугу Невинности.
Однако он сразу потерял равновесие. Заботливые руки подхватили его, поддержали голову, слегка отклонили ее назад. Послышался негромкий голос Диего:
— Пока не нужно смотреть вниз, Седрик Оуэн, чтобы мы не потеряли тебя навсегда в других временах.
Он испугался и направил свой взор на запад, в сторону заходящего солнца и голубого неба, где уже были начертаны цвета приближающейся ночи.
Он мог устремиться к шафраново-желтому и темно-красному потокам, исходящим от солнечной сферы, покинув границы своего бренного тела, но тут раздался кашель Фернандеса де Агилара, хаотичный звук, рассекший алые, белые и черные потоки.
Оуэн услышал, как воздух втягивается в легкие, он знал о скопившейся в них жидкости и об ослабевающем уже давлении крови в легочных артериях.
Он потянулся к запястью друга, нашел его и узнал правду за три биения пульса.
— Он умирает. Мы должны действовать немедленно!
Его голос метнулся к кронам деревьев и отразился от них.
С противоположной стороны костра Наджакмал ответила:
— Тогда посмотри на меня, Седрик Оуэн, хранитель голубого живого камня. Время пришло.
Она сидела в тени. Из ее ладоней вырвались два луча света, словно она потянулась к небу и дважды сняла солнце, чтобы оно сияло для него.
Оуэн прищурился — свет был очень ярким, — но не отвел взгляда от ее тонких пальцев. Медленно возникала форма; серебристые очертания черепа ягуара, вырезанного из безупречно чистого бесцветного кристалла, впитавшего в себя мерцающий свет пламени и слабое сияние далекого лунного света, пробивающегося сквозь полог джунглей: они сплелись в два серебряных луча света, запевших на такой высокой и чистой ноте, что его разум чудом не распался на части.
Вот так, в пульсирующей ночи, когда все его чувства были невероятно обострены, Оуэн впервые в жизни увидел другой череп, высеченный из камня руками, знавшими тайны звезд. Он был почти столь же безупречен, как его камень. Почти.
— Как странно видеть другой череп, не так ли? — тихо спросила Наджакмал.
— Это разбивает мое сердце.
Оуэн ощутил, как его душа поднимается к глазам; никогда еще она не казалась ему столь обнаженной.
— Что вы со мной сделали?
— Открой глаза и уши твоего сердца. Теперь ты можешь видеть так, как видим мы, слышать так, как слышим мы, и так же чувствовать. Теперь ты способен пройти по разлому между мирами, связать четыре звериных камня и объединить камни различных рас людей.
Полузабытая тень поднялась к нему от мозаики, и он вспомнил слова священника.
«Когда наступит конец света, эти четыре зверя объединятся и появится одно существо. Вы в состоянии представить, что может родиться от союза этих четверых?»
Волосы зашевелились у него на голове, и в теплой ночи вдруг повеяло холодом. Оуэн, охваченный страхом, спросил:
— Вы хотите, чтобы я разбудил дракона Кукулькана, радужного змея? Ведь конец времен еще не наступил?
Наджакмал покачала головой.
— Еще нет. Целое можно создать из суммы частей. Девять камней нужно объединить в обруч, который опояшет землю. Но мы не знаем одной вещи. И только ты способен открыть эту тайну. Вот тогда четыре зверя станут единым целым.
Наджакмал наклонилась к огню. Густой дым окутал ее голову, но она не закашлялась.
— Поверишь ли ты мне, Седрик Оуэн, если я скажу, что время есть тропа, по которой ты сможешь пройти, если мы откроем врата и пошлем тебя туда?
Что-то в выражении ее глаз насторожило Оуэна, и он задал простой вопрос Нострадамуса:
— Сопровождает ли такую попытку смерть?
— Смерть сопровождает все.
— И все же, если мне будет сопутствовать успех, отступит ли смерть, идущая по пятам за Фернандесом де Агиларом, и будет ли он жить?
Она кивнула, но ее движение больше походило на поклон.
— Если ты сумеешь это сделать, возможно, твой друг будет исцелен. Если ты потерпишь поражение, это приведет не только к вашей смерти, но и к тому, что разрыв между мирами будет преодолен и на земле наступит Опустошение, а у нас не останется никаких надежд на прощение. Ты готов к этому? Готов рискнуть всем ради жизни одного человека, который тебе дорог?
— Да.
Он ответил с уверенностью, которая поразила их обоих. И тут же послышался тихий смех Наджакмал.
— Тогда опусти взгляд, Седрик Оуэн, чтобы наконец увидеть мир у своих ног.
Южные земли майя, Новая Испания Октябрь 1556 годаНочь еще не успела вступить в свои права, когда де Агилара положили в середину мозаики, изображающей конец времен. С правой стороны царили опустошение, горе, уничтожение и смерть, они были такими реальными, что Оуэн ощущал страх, видел цвет слез, слышал, как умирают души тех, кто тщетно пытался уцелеть.
Слева, там, где вставала луна, девушка-дитя играла в бабки на летнем лугу, заросшем дикими цветами.
А в разрыве между этими двумя мирами была нить разноцветных жемчужин; тонкая связующая линия надежды для Фернандеса де Агилара и для всего мира.
С противоположной стороны костра Наджакмал сказала:
— Их нужно соединить при помощи песни твоего камня.
Его камень томился в сумке у бедра. С нежностью отца, берущего в руки своего первенца, Оуэн вытащил голубой камень.
Сначала его смущало присутствие второго камня, а потом он ощутил гордость, поскольку увидел, как в глазах Наджакмал отразилась ее душа.
Меняя положение рук, Оуэн напитал свой камень светом огня и луны, они сплелись, и возник луч, направленный к чистому кристаллу ее оскалившегося ягуара.
Во время их встречи произошли алхимические процессы изменения тонов и света, каких ему не доводилось видеть прежде. И, наблюдая за тем, как они сплетались друг с другом, чтобы создать нечто третье, большее каждого из них по отдельности, Седрик Оуэн понял, как могут слиться воедино связующие линии песни девяти черепов, а потом создать из четырех зверей одного. Вопрос состоял лишь в том, способен ли он на это.
— Ну что ж. — Он поднял череп и повернул его так, что сияние из глазниц и нить песни были направлены вниз, на выложенный плитками разрыв в мозаике.