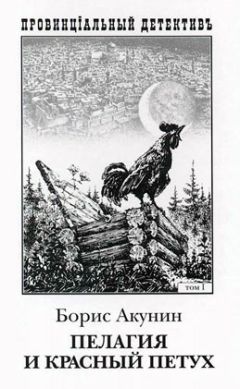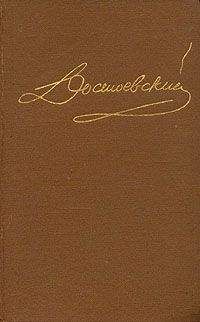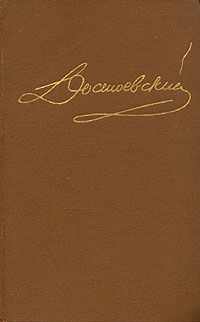Ознакомительная версия.
— А, так я и знал, — с удовлетворением заметил ростовщик. — Проходимец.
— Погодите, не так всё просто. Сидел, но недолго. За него всё выплатили, до копейки. И как мне шепнули, выплатил долг не то сам ребе Шефаревич, не то его помощники. Значит, поручительству можно верить? К вам же, мсье Голосовкер, я пришел, потому что вы хорошо знаете моего клиента. Это некий Бронислав Рацевич, ваш бывший должник. Ведь это вы его упекли в яму?
— Я. — Хозяин кассы улыбнулся, как человек, вспоминающий прежнюю победу. — Умный коммерсант как распоряжается своими деньгами? Делит их на три части: основную вкладывает в дела надежные, но дающие небольшую прибыль. Другую часть пускает на предприятия средней рискованности — со средним же доходом. А малую часть тратит на прожекты совсем сомнительные, где запросто можно потерять все деньги, но зато при удаче и выиграешь много. В нашем с вами гешефте капиталовложение высокого риска — скупка безнадежных векселей. За десять, иногда за пять процентов. Ну да вы сами знаете. [Бердичевский кивнул, хотя эта ростовщическая премудрость была для него внове. ] Чаще всего прогораешь, но иногда и повезет. Вот я скупил векселя Рацевича за тысячу целковых. Люди не надеялись вернуть свои деньги, потому что такой человек, в жандармском управлении служит. А я не побоялся. И получил сполна, все пятнадцать тысяч. Вот что такое вложение высокого риска.
Голосовкер со значением поднял палец.
Выразив восхищение тороватостью собеседника, Матвей Бенционович осторожненько осведомился:
— Кто же оплатил векселя? Почтенный ребе Шефаревич?
Эфраим Лейбович сделал презрительную гримасу.
— Шефаревич станет выкупать жандарма? А хиц ин паровоз!
— «Жар в паровозе»? — не понял Бердичевский. — Что означает это выражение?
Ростовщик рассмеялся:
— Вам с вашей фамилией следовало бы знать. Это пошло из Бердичева, когда туда провели железную дорогу. Я хочу сказать: нужен Шефаревичу этот жандарм, как лишний жар паровозу.
— Однако же у них могут быть какие-то особые, не известные посторонним отношения…
— Нет, нет и нет, — отрезал Голосовкер. — Отношения между людьми, конечно, могут быть какие угодно, но пятнадцати тысячам у Шефаревича взяться неоткуда. Уж кому знать, если не мне. Шефаревич — и пятнадцать тысяч! Не смешите меня. В такой умзин[23] можно поверить, только живя в Заволжске. Гоните Рацевича в шею, он мошенник. Не отдаст он вам денег, а поручительство он подделал — наверняка знает, что Шефаревич уехал и не вернется. Вот вам совет, цена которому двадцать пять тысяч!
И ростовщик сделал широкий, щедрый жест.
— Постойте, постойте, — заволновался Матвей Бенционович, у которого рушилась вторая и притом последняя версия. — Вы говорите, что у «Гоэль-Исраэль» не было денег, чтобы выкупить Рацевича. В это трудно поверить. Такой уважаемый человек, как ребе Шефаревич, не нуждается в капиталах. Ему достаточно приказать, и богатые евреи принесут столько, сколько нужно. Я слышал от человека, заслуживающего полного доверия, что почтенный ребе подобен пророку Иезекиилю. Люди говорят, что столь грозного и воинственного еврея не бывало со времен Иуды Маккавея, что в ребе Шефаревиче возродились сила и гнев Израиля.
— Плюньте тому, кто это вам говорил, в физиономию, Шефаревич обычный трескучий болтун, каких во множестве производит худосочная галутская земля. Они трясут бородой, сверкают глазами и грозятся, но при этом похожи на ужей — шипят громко, а кусают нестрашно. — Голосовкер тяжко вздохнул. — Маккавеи и в самом деле возродились, но они не носят пейсов и не соблюдают субботы, уж можете мне поверить.
— Вы о сионистах?
— О некоторых из них. — Ростовщик оглянулся на молодого человека и перешел на шепот. — Знаете, на что я потратил те пятнадцать тысяч, и даже еще пять тысяч сверху? — Он жалобно развел руками. — Вы не поверите. На осушение болот в какой-то палестинской долине. Как вам это понравится? Где Эфраим Голосовкер и где те болота?
— Это благородный поступок, — рассеянно обронил Бердичевский, думая о своем.
— Будешь благородным, если тебя просят так убедительно, аз ох-н-вей…
Интонация, с которой была произнесена эта фраза, заинтересовала статского советника.
— Вас заставили? Вымогательство?
— Нет, — горько усмехнулся Эфраим Лейбович. — Этот господин не вымогал. Он просто приехал ко мне в гостиницу. Такой вежливый молодой человек, при галстуке, в визитке. Сказал приятным голосом: «Голосовкер, вы богатый человек и разбогатели главным образом на том, что сосете кровь из еврейской бедноты. Пришло время поделиться со своим народом. Я буду вам очень признателен, если в течение трех дней вы внесете в кассу коммуны „Мегиддо-Хадаш“ двадцать тысяч рублей. А если не внесете, мы увидимся снова». И таким, знаете, тихим голосом он это сказал, совсем не как говорит ребе Шефаревич. Я подумал: вот змея, которая не шипит, но уж если укусит — нешине гедахт.[24] И мне ужасно не захотелось, чтобы мы с молодым человеком увиделись вновь.
— Когда это было? Где? И кто этот человек?
— Вы спрашиваете когда? Четыре месяца назад. Вы спрашиваете где? В городе Одессе, зол дос фархапт верп.[25] Я поехал туда по коммерческим делам.
Матвей Бенционович напомнил:
— Я еще спросил, кто этот бандит?
— Вы сказали это слово, не я, — оглянулся на дверь ростовщик, хотя до Одессы отсюда было добрых пятьсот верст. — Многие евреи считают, что он герой. Если вы спросите меня, я вам скажу, что героев и бандитов пекут из одной муки, но это не важно. Вежливого молодого человека, который побывал у меня с визитом, звали Магеллан. Я навел справки у солидных людей. И они рассказали про этого Магеллана такое, что я подумал: пускай уже они будут, эти болота. То есть, пускай их уже не будет. Двадцать тысяч — очень большие деньги, но зачем они покойнику?
— Даже так? — усмехнулся Бердичевский, позабавленный рассказом. Кто бы мог ожидать от житомирского гобсека подобной впечатлительности?
— Я вам не буду пересказывать всё, что мне сообщили солидные люди про еврея по имени Магеллан, потому что это получится долго и ночью вам обязательно приснится кошмар, а кому нужны кошмары в ночь на субботу? Я расскажу вам только то, что я видел собственными глазами, а потом вы уже будете говорить «даже так?» и усмехаться, ладно? — Голосовкер передернулся от нехорошего воспоминания. — Вы думаете, я мишугенер, чтобы за здорово живешь или даже с большого перепугу отдавать на какие-то болота двадцать тысяч? Два дня — это два дня, подумал я. За два дня Господь Бог успел отделить свет от тьмы и воду от суши — если уж говорить о болотах. Я прочел в одесской газете, что завтра у «Мегиддо-Хадаш» митинг, и решил посмотреть, что это за люди. Если совсем страшные — нынче же сбегу в Житомир, пускай мсье Магеллан поищет ветра в поле. А если не очень страшные, то сначала закончу свои одесские дела, а сбегу уже потом.
Пришел. Ну, митинг как митинг. Один еврей кричит громкие слова, другие слушают. Потом выходит другой еврей, тоже кричит. Потом третий. Долго кричат и во всю глотку, а слушают не очень хорошо, потому что евреи любят сами говорить, других слушать не любят. А потом вышел Магеллан. Говорил тихо и недолго, но слушали его так, как у нас в синагоге слушают кантора Зеевзона, когда он приезжает из Киева со своим хором из восемнадцати певчих. И когда Магеллан закончил и сказал: «Кто с нами — подписывайтесь под Хартией» (была у них какая-то там Хартия, вроде клятвы или присяги), то выстроилась целая очередь из парней и девушек. Все захотели осушать болота и сражаться с арабскими бандитами. И я подумал себе: Бог с ними, с одесскими делами, нынче же уезжаю в Житомир. Только вдруг расталкивает публику Фира Дорман и тоже начинает говорить речь. Вы, конечно, знаете Фиру Дорман?
— Это американская социалистка и суфражистка? Читал в газетах.
— Я не знаю, что такое «суфражистка», но если это те, кто говорит, что женщины не хуже мужчин, то это как раз про Фиру. Ее девочкой увезли в Америку, она набралась там всяких дурацких идей и приехала будоражить бедные еврейские головы, которые и так сикось-накось…
Значит, вышла Фира — стриженая, с папиросой, в каких-то шароварах, и как закричит зычным голосом — прямо фельдфебель на плацу: «Не верьте этому шмоку, девушки! Он тут врал вам про равноправие, про новое братство. А я у вас спрошу: что за слово такое — „братство“? Если равноправие, то почему не „сестринство“? И почему главный в коммуне — мужчина? А потому, что этот краснобай хочет заманить вас в новое рабство! К нам в Америку тоже приезжали такие, как он, устраивать коммуны! Я вам расскажу, чем это закончилось! Бедные девушки работали наравне с мужчинами, но еще и обстирывали их, и кормили, и рожали детей, а потом, когда они раньше времени состарились и утратили привлекательность, вчерашние „братья“ привели новых жен, молодых, которым про равноправие больше не рассказывали!»
Ознакомительная версия.