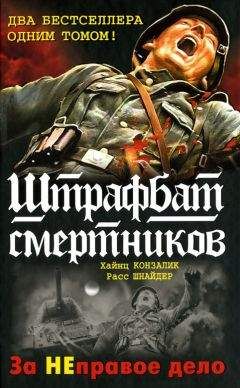— Ну, Сансони! Ты что, заснул? — почти со смехом произнес Папа. — Прикажи впустить посла от Медичи. Нет, погоди! Скажи-ка, кто явился на этот раз?
— Некий Джакопо Сальвьяти, ваше святейшество, — ответил камерарий.
— Oh, belèn! — Иннокентий при каждом удобном случае афишировал свое генуэзское происхождение. — Onu è u cusin de Francesco?[4]
— Какого Франческо, ваше святейшество?
— Ну ты и болван, Сансони. Франческо Сальвьяти, архиепископа Пизанского, черт побери, того самого, которого Медичи han criccâ.
— Criccâ? Я не понимаю вас, когда вы говорите на этом языке, ваше святейшество.
— Ну, того самого, которого Медичи повесили за участие в заговоре Пацци, — фыркнул Папа.
— Я не знаю.
— Вечно ты ничего не знаешь, maccaccu![5] Вот увидишь, это он и есть! Должно быть, Сальвьяти поняли, откуда ветер дует. Скажи, пусть войдет, и мы выразим ему свои соболезнования.
— Иду, ваше святейшество.
Флоренция
Пятница, 15 июля 1938 г.
— Джованни, ты читал сегодняшнюю «Джорнале д’Италия?» — спросил Джакомо Мола.
— Нет, у меня пока не было времени.
— Невероятно! Вот уж не думал, что до этого дойдет. Слушай: «Большинство современного итальянского населения — арийского происхождения, и итальянская цивилизация представляет собой цивилизацию арийскую». Вот еще: «Пришло время итальянцам объявить себя расистами. Вся работа, проведенная итальянским режимом, по существу, расистская». Пакость какая! Слово «расизм» здесь звучит с положительным оттенком. Но слушай, слушай, это еще не все: «Евреи — единственный народ, который не прижился в Италии, потому что он не включает в себя европейских расовых элементов. Он абсолютно отличен от тех элементов, которые дали начало итальянцам». Понимаешь, что происходит?
— А кто подписал статью?
— Это что-то вроде манифеста, написанного непонятно кем. «Группа студентов и доцентов-фашистов итальянских университетов». Имен нет, и это заставляет меня думать, что тут не обошлось без Муссолини.
— Скажу по секрету, я рад, что не еврей.
— А я так нет! — громко заявил де Мола. — Я бы сегодня, наоборот, хотел быть евреем! Мне стыдно, что я итальянец! Надо написать письмо в «Джорнале д’Италия» и потребовать, чтобы его напечатали!
Джакомо де Мола никак нельзя было назвать трусом. Он был высок, худ, в волосах, подстриженных бобриком, уже серебрилась седина. В тревожное время, когда повсюду хозяйничала палка, очки в золотой оправе на его маленьком, почти женском носу выглядели хрупко и беззащитно. Но за этой сухопарой, нервозной оболочкой скрывались демоны. В минуты гнева или перед лицом опасности он, несмотря на свои сорок четыре года, обнаруживал поистине библейскую силу и стремительность. В молодости Джакомо был запасным игроком олимпийской фехтовальной команды в Стокгольме и видел победу своего друга Недо Нади в индивидуальном зачете на рапирах.
Де Мола, напротив, предпочитал шпагу. Тренер говорил, что у него это в крови, хотя сам считал такое оружие варварским в отличие от рапиры или сабли. Чтобы преуспеть в этой дисциплине, требовались терпение, железные нервы и недюжинная наблюдательность, и Джакомо держал форму, регулярно посещая тренировки.
— На твоем месте я бы этого делать не стал, — заявил Джованни. — О тебе сразу поползут слухи, а ведь ты сам столько раз повторял, что надо сидеть тише воды, ниже травы. Рано или поздно эти штучки кончатся.
— Да я и так знаю, что уже ничего не изменишь, — улыбнулся Джакомо. — Я просто так сказал. Но вот увидишь, все это только начало. По счастью, мы не в Германии, хотя и обезьянничаем вовсю. Да, кстати, как прошло вчера совещание у консула?
— Доктор Вольф был очень любезен и высоко оценил книги, которые я ему принес. Особенно то редкое издание Мануцио, «Hypnerotomachia Poliphili».
— Это ценнейший раритет, так что с покупкой ему повезло.
— Сейчас нелегко найти человека, который мог бы выложить за книгу двадцать пять тысяч лир.
— Верно, только этот текст стоит много больше.
Джакомо де Мола собрался уже уходить, но ему отчаянно не хотелось покидать блаженную прохладу книжной лавки. Толстые каменные стены почти круглый год поддерживали одну и ту же температуру. Это обеспечивало не только хорошую сохранность старинных книг и рукописей, но и постоянный приток выгодных клиентов. В магазине они находили прибежище и от зимних холодов, и от летней жары, как, к примеру, сейчас.
Едва Джакомо вышел, как его обдало душной волной жаркого и влажного воздуха. Панама цвета слоновой кости еле защищала его от жаркого солнца. Де Мола улыбнулся, увидев двоих парней из милицейского отряда в темно-серых брюках, заправленных в высокие сапоги, в черных рубашках и фесках. Вид у них был заносчивый, но Джакомо не сомневался, что им гораздо жарче, чем ему. Они явно завидовали его белому льняному костюму.
Он уже опаздывал на очередное заседание Академии, несколько лет назад переведенной в помещение башни Пульчи, и ускорил шаг, хотя ему оставалось пройти всего несколько сот метров. Как довольно часто случалось в последнее время, Джакомо де Мола подумал о Джованни и о том пути, что они проделали вместе, после того как он забрал мальчика из сиротского приюта и определил в коллеж иезуитов в Ливорно. Тот закончил коллеж, в силу своего цепкого ума набрав максимальное количество голосов. Джакомо пустил в ход связи и смог устроить его в парижскую Сорбонну. Юноша блестяще защитился по античным рукописям и итальянской литературе.
Однако удовлетворение Джакомо было неполным. Ему так и не удалось добиться доверия мальчика. Они работали вместе уже больше десяти лет, но иногда он упирался в непроницаемый барьер, созданный то ли природной замкнутостью Джованни, то ли опытом сиротской жизни. Как бы там ни было, а за эти годы он многому научил мальчика и раскрыл ему большинство секретов. Не все, не самые важные. Для такого посвящения Джованни был еще не готов. Но в свое время придет и это. Джакомо был уверен, что сделал правильный выбор. С другой стороны, у него не было детей, и он собирался вскоре усыновить Джованни. Тот пока об этом не знал. Джакомо хотел сказать ему попозже, вместе с посвящением в последнюю, самую важную тайну. Может, уже в этом году, ибо Джованни бил копытом как молодой жеребенок, который знает, что его вырастили для состязаний, уже чувствует запах беговой дорожки и дух соперничества.
Джованни Вольпе остался в лавке один, подождал, пока выйдут последние клиенты, потом аккуратно запер кассу и входную дверь. Перед зеркалом он задержался, посмотрел на свое ничем не примечательное лицо, удивлявшее разве что только огненно-рыжим чубом надо лбом, затем подошел к телефону и попросил соединить его с номером в Риме за счет абонента.
— Да, если можно, побыстрее, пожалуйста. Вызываемый на проводе? Прекрасно. Будьте добры, соедините. Herr von Makensen?
— Ja. Herr Volpe?
— Wie geht es Ihnen?
— Sehr gut. Aber sprechen Sie bitte italienisch.
— Vielen Dank.[6] Я могу говорить?
— Конечно, — ответил немецкий посол с легким гортанным акцентом. — Эта линия не прослушивается.
* * *
В Сельскохозяйственной академии еженедельно собирался узкий круг ученых. Они не обсуждали, как это было принято здесь уже в течение двухсот лет, методы истребления оливкового долгоносика, не спорили, какой тутовник устойчивее, филиппинский или китайский, и не выясняли, каковы достоинства коней болотных погонщиков. Их собрания носили особый отпечаток. Греческий термин «georgos», «возделыватель земли», здесь рассматривали в более широком и духовном аспекте.
На этих собраниях свободно, без цензуры и каких-либо опасений, высказывались по поводу религии и философии, науки и политики. Прежде чем войти в тесный кружок ученых и мыслителей, надо было выказать необычайные дарования и веру в идеалы мира, свободы, справедливости и братства. Все члены кружка должны были дать согласие на вступление новичка, подтвердить свое согласие коротким докладом и принять на себя всю ответственность. Только после этого кандидата постепенно кое о чем информировали, выясняли, из каких соображений он явился, и посвящали в цели сообщества. Под конец церемонии его представляли остальным.
Судя по тому, как проходила инициация, многие думали, что вступают в какую-нибудь тайную масонскую ложу. Почти никто из них не был разочарован. Однако в обществе существовал второй уровень, объединявший гораздо более тесный круг. Эти люди группировались вокруг де Мола, и их задачей было его защищать. Этот союз веками именовался «Омегой».
Джакомо принес с собой «Джорнале д’Италия», чтобы обсудить странную статью о вопросах расы. Он был убежден, что все интеллигенты и ученые обязаны хоть как-то обуздать тот идиотизм, который чем дальше, тем больше распространял вокруг себя фашистский режим. Глупостей хватало, хотя некоторые были довольно безобидны. К примеру, настойчивое предложение называть коктейль «коккотелло», йогурт — «медзорадо», джаз — «джад зо», а партнера — просто «членом» возбуждало неудержимое веселье, особенно последний шедевр. Куда более крупным идиотизмом можно было считать учреждение детской организации «Дети Волчицы», объединявшей малышей шести-семи лет. Потом они становились «балиллами», «авангардистами» и так далее. Интересно, фашистские главари когда-нибудь задумывались о том, что волчицами во времена Древнего Рима называли дорожных проституток, которые обслуживали пастухов и крестьян? Тогда получалось, что «Дети Волчицы» — это «Шлюхины дети».