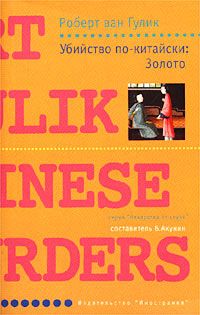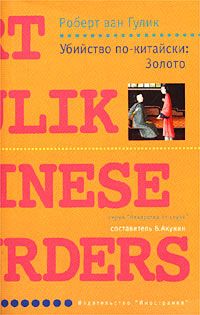– Боже мой… – протянул я. – Какой ужас. Какой удар для несчастной Ольги Михайловны… И многие получили вот этакое?
– Ха, да полгорода. Нет, есть те, кто получил только приглашение в Покровскую. Всякие там актерки, гризетки, швейцары и прочие… pas de notre milieu, [48] вы понимаете. Но прочие, приличная публика… в большинстве своем получили весь набор-с. Вот это, – Выжлов постучал рукой, затянутой в светло-серую перчатку, по стопке конвертов, – действительно происшествие. И поверьте, Аркадий Павлович, оно может сильно подпортить карьеры многим. И ведь этот чертов foundling [49], этот парвеню прекрасно знает, что делает. Это просто терроризм, если хотите знать, и идеология-с! Вот вам, дескать, всех на одну доску поставил. И миллионера, и, скажем, женщину полусвета, и, натурально, убийцу, который отца заколол и брата цианидом отравил! Ведь это дойдет до нужных ушей. Ведь и преподнести можно как бунт-с, вот ведь в чем штука. А что власти? Что мы делаем? Нет, я прямо сейчас еду к вашему уважаемому дяде с докладной запиской. Мое дело – вовремя донести ситуацию, свое видение. Дальше пусть уж он как губернатор… А просто наблюдать за происходящим, как советует ваш дорогой доктор, я позволить себе не могу-с.
Он хотел захлопнуть дверцу, но я вцепился в нее что есть силы.
– Петр Николаевич, вы видели Самуловича? Умоляю, скажите, где он. Я не могу его найти.
– Было бы из-за чего переживать. Даже завидую вам. По мне так, вот как на духу, лучше бы ваш товарищ хоть на неделю пропал. Каждый день то записка, то сам приходит. И все требует, требует чего-то. Впрочем, может, вы его отвлечете. Поспешите сейчас в чайную, что напротив второго участка. Он туда направился. Видно, крови нашей недостаточно выпил.
Выжлов нервно усмехнулся, крикнул «пошел», и экипаж загромыхал по булыжникам в сторону губернаторского дома. Я постоял немного и двинулся к участку. Все было странно, ненормально.
На площади перед участком, отражая небо, блестела огромная лужа. Квартальный в будке дежурно хмурился и покрикивал на снующих мальчишек. У входа в чайную курил приказчик. Я заглянул внутрь. Посетителей было мало. Борис, если и заходил сюда, то, вероятно, уже ушел. Я оглядел округу, чертыхнулся. Сунулся в участок, в трактир на соседней улице. Все мимо. Окончательно раздосадованный, я повернул к дому. Настроение было ужасным. Иван Федорович с его неуместными приглашениями, несомненный скандал, который за ними последует. Эта пропажа Самуловича, его скрытность. Перипетии последних месяцев. Все угнетало меня. В дом я вошел в крайнем раздражении. Кинул Марфе шляпу, плед. Она что-то закудахтала, но я бросил на нее такой огненный взгляд, что бедная старушка только махнула рукой и зашаркала в кухню.
Я поднялся по лестнице и с удивлением принюхался. Пахло чем-то неприятным. Я толкнул дверь в свою комнату и остолбенел. В кресле у окна сидел Антипка. В одной руке у него была баранка, другой он чесал ногу. Я оторопел.
– Ты что здесь делаешь?
– Вас жду, дядька. Меня хозяйка сама пустила, – сразу ушел он в оборону. – И я ничего не трогал, не думайте. Очень надо. Меня до вас доктор послал.
– Ладно, ладно. Не обижайся. Сиди.
– Сиди… уж насиделся. Мне вот вам записку велели передать. А вас все нет да нет.
Он порылся в кармане и протянул мне бумажку. Рукой Бориса было написано следующее: «Дорогой Аркадий! Прошу тебя приехать в „Тихую пристань“. Если будут вопросы, скажи, что едешь по делу на встречу с сестрой Агриппиной по благотворительным делам. Твой Б.» Я повертел записку, надеясь найти какие-то дополнительные пояснения, потом воззрился на моего гостя. Он снова грыз бублик и чесался. Я решил обязательно отдать кресло в чистку.
– Так, хорошо. Только что это все означает? – снова начал я раздражаться.
– Как чего? – дернул мальчик плечами. – Ехать вам надо скоренько, раз сам зовет.
– Сам? Надо же.
– А что вы смеетесь? Я доктора уважаю. Если мне человек добро, если… да вам не понять. – Он смерил меня оценивающим взглядом и махнул рукой. – В общем, я – не крыса. Я добро помню. И если кто говорит что плохое про доктора, так я ничего плохого не видал.
Я помотал головой.
– Околесица какая-то. Только что же ты расселся, если ехать надо. Пошли, возьмем извозчика. Черт…
– Вот говорю вам, говорю – вы не понимаете. Вам-то ехать одному велено, а коли спросят, так сказывать, что к монашке. Стало быть, секретно! Мне с вами никак нельзя. Я здесь до сумерек досижу, а после уж задами. Я сюда крался, ух, извелся весь. Светло и, как на грех, ясно, нет чтобы хоть дождь. Так что давайте поскорее. Вас ждут уже.
Он бросил свою баранку и сложил руки. Я помялся еще немного (не выполнять же мне, право слово, команды мальчишки). Кликнул Марфу, распорядился покормить гостя и проводить его вечером через черный ход. Вышел на улицу и поехал в постоялый двор.
Этот визит, записка, все происшествия последнего дня полностью выбили меня из колеи. Все во мне клокотало. Я страшно злился, и больше всего – на Бориса: не навестить меня ни разу, запить, прислать ко мне какого-то оборванца буквально с повелением «немедленно прибыть». При этом никаких пояснений, ничего. Да что он себе воображает? Я поудобнее устроил руку в повязке и предался весьма бестолковым размышлениям. Мысли мои бегали по кругу от предположений о тяжелом запое Бориса, через таинственное его послание и обратно. В этот круг лезли мысли об опиуме, о предстоящем скандале на похоронах, об Иване Федоровиче. В общем, когда я подъехал к «Тихой пристани», я был взвинчен до последнего предела.
Извозчик подкатил ко входу, я расплатился, поднялся по ступеням и постучал. Не открывали долго, наконец раздались грузные шаги, и какая-то неопрятная баба пустила меня внутрь.
– Я к господину Самуловичу, – буркнул я довольно нелюбезно.
Баба пожала полными плечами и махнула рукой куда-то наверх.
– Четвертый нумер, – буркнула она. – Неплохо бы на чай дать, а то жилец-то скуповат.
Я, как всегда в таких ситуациях, смутился, зачем-то действительно сунул ей в руку медяки и поспешил вверх по лестнице. В коридоре было сумрачно, пыльно. Четвертый номер находился в самом дальнем конце. Я несколько раз споткнулся, пока дошел до нужной двери, постучал, получил приглашение войти. Внутри оказалось совсем темно. Окна были забраны ставнями, и скудный свет весенних сумерек пробивался сквозь щель, прочерчивая серую, размытую линию на темном фоне.
– Ave, Caesar, morituri te salutant! [50]
Снова услышал я голос Самуловича. В углу вспыхнул кончик папиросы, на мгновение осветив руку и часть лица моего друга.
– Борис! Что за шутки? Зачем ты здесь? Что ты сидишь в темноте, как крот? И вообще, что за спектакль!
– А, да… действительно темно. Я, понимаешь, что-то задумался. Сейчас будет лучше. Только не отпирай ставни!
Раздался шорох, чиркнула спичка, и затеплился огонек керосинки. Самулович сидел в высоком кресле у стола. Костюм его был в еще большем беспорядке, чем обычно. Лицо осунулось. На столе рядом располагалась пепельница с окурками и… початая бутылка.
– Что же ты стоишь, садись. Где тебя только носит. Жду тебя, жду. Уж волноваться начал.
– Начал волноваться?! – я буквально взорвался от возмущения. – Ты начал обо мне волноваться? Вот хорошо! А то я, знаешь, почти неделю тебя ищу. Потом мне говорят, что ты запил. Я бегаю по всему городу. А ты, оказывается, несколько часов назад «начал волноваться».
– Аркаша, Аркаша, что ты? – он бросил сигарету, поднялся, подвинул мне кресло. – Пожалуйста, присядь. Я, наверное, не прав. Я сейчас это очень понял. Errare humanum est! [51] Ты только не горячись. Это и для раны не полезно. Я все-все тебе объясню.
– Спасибо. А я уж и не надеялся. Впрочем, можешь и не торопиться. К чему? Я же так… захотел – позвал, захотел – пропал. Правильно?