Я хотел уйти, но никто из теснившихся вокруг зрителей, включая Цаганжапова, даже не попытался подвинуться, чтобы дать мне дорогу. Им было не до меня, все неотрывно смотрели в одну точку за моей спиной. Мне сделалось не по себе. Я обернулся и с облегчением увидел, что ничего страшного там не происходит. Более того, мой прогноз оказался ложным, Джамби-гелун стоял у костра, ободряюще улыбаясь, широко распахнув объятья навстречу дрожащему от страха полуголому лейтенанту. «Ну же? Смелее!»— говорила вся его поза.
Разумеется, я истолковал ее не как жест примирения или прощения — порывов, Чжамсарану совершенно не свойственных, — а как приглашение отречься от прошлого, признать святость «трех драгоценностей», на отрицании которых основывалось, как я понял, самостояние мангысов, и, обратившись в лоно учения о четырех благородных истинах, этим купить себе жизнь или хотя бы легкую смерть. Не уверен, что мое понимание этого жеста совпало с пониманием остальных, но все, как и я, замерли в ожидании. Опять завыли трубы. Прошло не меньше минуты, пока лейтенант робко сделал первый шаг. Казалось, он Сам не верит своему счастью.
Еще шаг. Еще. Подавшись вперед, Джамби-гелун принял его в объятия, но, прежде чем сомкнуть их окончательно, он вдруг вывернул локти, одновременно встряхнув обеими кистями, и не то из рукавов, не то из обшлагов курмы в ладони ему скользнули два монгольских ножа с круглыми ручками и узкими прямыми лезвиями. Оба они вонзились китайцу в спину как раз в тот момент, когда он впервые попытался ответить улыбкой на улыбку своего убийцы.
Его пронзительный крик быстро перешел в хрипение, а оно потонуло в реве толпы, нараставшем по мере того, как Джамби-гелун еще четыре раза повторил свой двойной удар. В общей сложности лейтенант получил десять глубоких колотых ран в разные участки верхней половины тела. Чтобы не дать ему упасть, конвойные проворно подхватили его справа и слева. Несчастный бился в агонии, но был еще жив, когда Джамби-гелун нанес последний, одиннадцатый удар: левой рукой он наотмашь распластал ему подреберье, а правую, предварительно отшвырнув нож, засунул в рану, вырвал оттуда кровавый дымящийся ком конвульсирующего сердца и высоко поднял его над собой, показывая беснующейся толпе.
Меня замутило от ужаса и отвращения. Тем временем загудели барабаны, крайний в ряду знаменосец медленно, торжественно опустил древко своей хоругви, так что полотнище почти коснулось земли. Пока оно опускалось, Джамби-гелун положил хлюпнувшее сердце в габалу, услужливо подставленную одним из лам его свиты, затем окунул туда взятую у другого ламы кисточку для письма и кровью сердца, как тушью, в два приема вывел на шелковом полотнище какой-то магический, должно быть, иероглиф в виде опрокинутого полумесяца среди языков огня или запутавшейся в камышах лодки.
Тогда-то и пронзило, меня острое чувство вторичности всего происходящего. Поначалу смутное, сродни тем таинственным и мучительным воспоминаниям, которые называют ложными, внезапно оно дозрело до абсолютной уверенности в том, что бесконечно давно, в детстве, во сне или в прежней жизни я уже видел и эти ножи с их длинными узкими лезвиями, и фонтан крови, брызнувший из одиннадцатой по счету раны, и красно-бурый знак на белом знаменном шелке. Я помнил даже трепет собственного сердца, но ничего более конкретного вспомнить не мог.
В то время как труп лейтенанта за ноги волокли к костру, освященное его кровью знамя победно взмыло над площадью. На смену ему поплыло вниз второе, соседнее, но выпрямилось оно уже у меня за спиной.
Через четверть часа я вышел за крепостную стену. Бродячие псы все еще пировали на тушах убитых ночью верблюдов, но если смотреть выше, мир был прекрасен. Закат уже отпылал, все вокруг дышало покоем и радовалось надвигающейся вместе с сумерками ночной прохладе. Всюду царила пастель, лишь далеко на юге, зубчатый и грозный, как гребень на спине поверженного дракона, громоздился становой хребет Мацзюньшаня.
В ту же ночь, никого не предупредив, постаравшись сделать свой отъезд как можно менее заметным, я выехал на восток в сопровождении крошечного отряда, состоявшего из полудесятка бурят моего персонального конвоя, моего переводчика, проводника и Панцука с двумя его братьями. К началу августа все мы без особых приключений добрались до Урги.
Когда самовар закипел, обязанности хозяина взял на себя Сафронов.
— Китайская стрела в Россию вошла, все русские сердца сгубила до конца… Что это? — спросил он, разливая чай.
— Чай, — угадал Иван Дмитриевич. За чаем он продолжил:
— Остается добавить, что супругов Довгайло судили, признали виновными в убийстве Губина и сослали в Восточную Сибирь. Лет пять они промаялись на поселении где-то в Забайкалье, потом Петр Францевич добился разрешения поступить на службу. Пиком его карьеры стала должность помощника пограничного комиссара в Кяхте. В позапрошлом году он умер, а Елена Карловна вскоре вышла замуж за богатого местного скотопромышленника из крещеных бурят. Недавно они переехали на жительство в Ургу.
— Вы поддерживаете с ней переписку? — спросил Мжельский.
— Нет. Думаю, она до сих пор уверена, что Каменский покончил с собой, хотя наверняка знакома с его убийцей. К сожалению, никаких улик против него у меня не нашлось. Мне говорили, что Вандан-бэйле тоже поселился в Урге, а в таких городах все интеллигентные люди знакомы друг с другом.
— Если вы с Еленой Карловной не переписываетесь, — вмешался Сафронов, — откуда вам все про нее известно?
— От Зиночки. Нынче на Пасху мы с ней случайно столкнулись на Невском.
— Вы узнали ее после стольких лет?
— Она меня узнала.
— И как она поживает?
— Неплохо, по-моему. Тоже второй раз замужем, четверо детей. Младший — ровесник моего внука.
Все замолчали. С той стороны веранды, откуда открывался вид на Волхов, оконные переплеты становились все темнее на фоне белесого утреннего неба. День обещал быть пасмурным, но тихим и теплым.
Все трое сошли в сад и гуськом, чтобы не вымочить ноги в мокрой траве, двинулись по тропинке, вьющейся между деревьями, среди сбитых с ветвей ночным дождем совсем еще зеленых листьев. Кое-где из-под них выглядывали вздутые, грязно-бурые шары перегнивших яблок.
Тропинка вывела к обрыву. Внизу серели отмели, кулик мерил шагами лежавшую на песке корягу. Солнце еще не взошло, поверхность реки казалась матовой. Туманом курилась полоска ивняка на противоположном, пойменном берегу.
Из записок Солодовиикова
Вчера по службе ездил в Гатчину. День выдался жаркий, обратный поезд уходил ближе к вечеру, и я, покончив с делами, отправился побродить по дворцовому парку. Он теперь охраняется не слишком строго. Нынешний хозяин дворца великий князь Михаил Александрович второй год живет за границей, поэтому сторожа за умеренную мзду пускают в аллеи всякого желающего, будь он только более или менее прилично одет.
Парк довольно запущенный, в глухих углах попадаются заросшие кустарником гроты, постаменты без статуй или полуотесанные глыбы финского гранита с выбитыми на них собачьими кличками, похожими на названия миноносцев. Осматривая эти надгробья любимых охотничьих псов Александра III, я вспомнил, что у него имелся подсказанный какими-то бурятами план присоединить к России северную половину Китая заодно с Тибетом и Монголией, но, упаси Бог, без войны. Из всех наших самодержцев он единственный никогда ни с кем не воевал, а свою скифскую натуру тешил охотой, петушиными боями.
В глубине парка сторож показал мне обветшалый деревянный амфитеатр, где когда-то бились государевы кочеты. Я вошел внутрь. Скамьи для публики были из дерна, местами они оползли или обвалились, обнажив гнилой бревенчатый каркас. Песок с боевой площадки смыло дождями. Еще раньше, при Павле I, здесь устраивались рыцарские турниры, но за сто лет забавы измельчали, плюмажи слетели со шлемов и прыгали по арене, рассыпаясь пухом.
В Урге я не раз наблюдал, как китайцы стравливают петухов. Воспоминание о том, как летят перья, как болтается на кровавой нитке выклеванный глаз, мгновенно расширилось, вбирая все новые детали, через минуту я опять увидел варварский, волшебный город в центре Азии, в долине, напоминающей роскошные долины Ломбардии. Чаще всего я вижу его таким, каким на девятнадцатый день после нашего бегства из Барс-хото он открылся передо мной с высоты окружающих сопок.
В Урге я хотел встретиться с князем Вандан-бэйле, но мне сказали, что незадолго до моего приезда он умер, точнее, был отравлен. В отравлении подозревали Ергонову. Накануне она была у него дома, они вместе поужинали, а ночью князю стало плохо. Его нашли лежащим в луже рвоты, которая ему не помогла. Тут же бросились к Ергоновой, но не застали ее, слуги сообщили, что еще вчера вечером она с двумя приказчиками выехала в Россию. Соответственно погоню выслали на север, по Кяхтинскому тракту. Однако позже Ергонову видели к северо-востоку от столицы, по пути на озеро Буир-Нур близ Хайлара; оттуда по железной дороге она могла попасть в любой из тихоокеанских портов, чтобы затем отплыть в Европу.



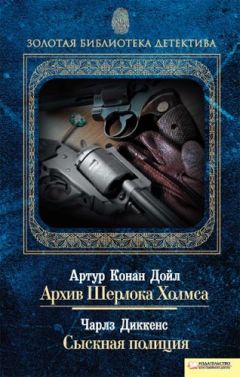

![Константин Путилин - Шеф сыскной полиции Санкт-Петербурга И.Д.Путилин. В 2-х тт. [Т. 1]](https://cdn.my-library.info/books/33302/33302.jpg)