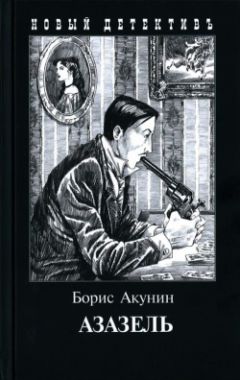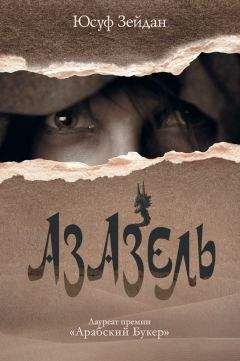На это справедливое замечание Эрасту Петровичу сказать было нечего, он вытащил из кармана аккуратный блокнотик с карандашом – записывать показания. Блокнотик Фандорин купил перед тем, как на службу в Сыскное поступать, три недели без дела проносил, да вот только сегодня пригодился – за утро коллежский регистратор в нём уже несколько страничек меленько исписал.
– Расскажите, как выглядел этот человек.
– Человек как человек. Собою невидный, на лицо немножко прыщеватый. Стёклышки опять же…
– Какие стёклышки – очки или пенсне?
– Такие, на ленточке.
– Значит, пенсне, – чиркал карандашом Фандорин. – Ещё какие-нибудь приметы?
– Сутулые они были очень. Плечи чуть не выше макушки… Да что, скубент как скубент, я ж говорю…
Кукин недоумевающе смотрел на «приказного», а тот надолго замолчал – щурился, шевелил губами, шелестел маленькой тетрадочкой. В общем, думал о чём-то человек.
«Мундир, прыщеватый, пенсне, сильно сутулый», – значилось в блокноте. Ну, немножко прыщеватый – это мелочь. Про пенсне в описи вещей Кокорина ни слова. Обронил? Возможно. Свидетели про пенсне тоже ничего не поминают, но их про внешность самоубийцы особенно и не расспрашивали – к чему? Сутулый? Хм. В «Московских ведомостях», помнится, описан «статный молодец», но репортёр при событии не присутствовал, Кокорина не видел, так что мог и приплести «молодца» ради пущего эффекта. Остаётся студенческий мундир – это уже не опровергнешь. Если на мосту был Кокорин, то получается, что в промежутке между одиннадцатым часом и половиной первого он зачем-то переоделся в сюртук. И интересно где? От Яузы до Остоженки и потом обратно к «Московскому страховому от огня обществу» путь неблизкий, за полтора часа не обернёшься.
И понял Фандорин с ноющим замиранием под ложечкой, что выход у него один-единственный: брать приказчика Кукина за шиворот, везти в участок на Моховую, где в покойницкой всё ещё лежит обложенное льдом тело самоубийцы, и устраивать опознание. Эраст Петрович представил развороченный череп с засохшей коркой крови и мозгов, и по вполне естественной ассоциации вспомнилась ему зарезанная купчиха Крупнова, до сих пор наведывавшаяся в его кошмарные сны. Нет, ехать в «холодную» определённо не хотелось. Но между студентом с Малого Яузского моста и самоубийцей из Александровского сада имелась связь, в которой непременно следовало разобраться. Кто может сказать, был ли Кокорин прыщавым и сутулым, носил ли он пенсне?
Во-первых, помещица Спицына, но она, верно, уже подъезжает к Калужской заставе. Во-вторых, камердинер покойного, как бишь его фамилия-то? Неважно, всё равно следователь выставил его из квартиры, поди отыщи теперь. Остаются свидетели из Александровского, и прежде всего те две дамы, с которыми Кокорин разговаривал в последнюю минуту своей жизни, уж они-то наверняка разглядели его во всех деталях. Вот в блокноте записано: «Дочь д. т. с. Елиз. Александр-на фон Эверт-Колокольцева 17 л., девица Эмма Готлибовна Пфуль 48 л., Малая Никитская, собст. дом».
Без расхода на извозчика всё же было не обойтись.
* * *
День получался длинный. Бодрое майское солнце, совсем не уставшее озарять златоглавый город, нехотя сползало к линии крыш, когда обедневший на два двугривенных Эраст Петрович сошёл с извозчика у нарядного особняка с дорическими колоннами, лепным фасадом и мраморным крыльцом. Увидев, что седок в нерешительности остановился, извозчик сказал:
– Он самый и есть, генералов дом, не сомневайтесь. Не первый год по Москве ездим.
«А ну как не пустят», – ёкнуло внутри у Эраста Петровича от страха перед возможным унижением. Он взялся за сияющий медный молоток и два раза стукнул. Массивная дверь с бронзовыми львиными мордами немедленно распахнулась, выглянул швейцар в богатой ливрее с золотыми позументами.
– К господину барону? Из присутствия? – деловито спросил он. – Доложить или только бумажку какую передать? Да вы заходите.
В просторной прихожей, ярко освещённой и люстрой, и газовыми рожками, посетитель совсем оробел.
– Я, собственно, к Елизавете Александровне, – объяснил он. – Эраст Петрович Фандорин, из сыскной полиции. По срочной надобности.
– Из сыскной? – презрительно поморщился страж дверей. – Уж не по вчерашнему ли делу? И не думайте. Барышня почитай полдня прорыдали и ночью спали плохо-с. Не пущу и докладывать не стану. Его превосходительство и то грозили вашим из околотка головы поотрывать, что вчера Елизавету Александровну допросами мучили. На улицу извольте, на улицу. – И стал, мерзавец, ещё животом своим толстым к выходу подпихивать.
– А девица Пфуль? – в отчаянии вскричал Эраст Петрович. – Эмма Готлибовна сорока восьми лет? Мне бы хоть с ней перемолвиться. Государственное дело!
Швейцар важно почмокал губами.
– К ним пущу, так и быть. Вон туда, под лестницу идите. По коридору направо третья дверь. Там госпожа гувернантка и проживает.
На стук открыла высокая костлявая особа и молча уставилась на посетителя круглыми карими глазами.
– Из полиции, Фандорин. Вы госпожа Пфуль? – неуверенно произнёс Эраст Петрович и на всякий случай повторил по-немецки. – Полицайамт. Зинд зи фрейляйн Пфуль? Гутен абенд.[1]
– Вечер добрый, – сурово ответила костлявая. – Да, я Эмма Пфуль. Входите. Задитесь вон на тот штул.
Фандорин сел куда было велено – на венский стул с гнутой спинкой, стоявший подле письменного стола, на котором аккуратнейшим образом были разложены какие-то учебники и стопки писчей бумаги. Комната была хорошая, светлая, но очень уж скучная, словно неживая. Только вот на подоконнике стояло целых три горшка с пышной геранью – единственное яркое пятно во всём помещении.
– Вы из-за того глупого молодого человека, который зебя стрелял? – спросила девица Пфуль. – Я вчера ответила на все вопросы господина полицейского, но если хотите спрашивать ещё, можете спрашивать. Я хорошо понимаю, что работа полиции – это очень важно. Мой дядя Гюнтер служил в заксонской полиции обер-вахтмайстером.
– Я коллежский регистратор, – пояснил Эраст Петрович, не желая, чтобы его тоже приняли за вахмистра, – чиновник четырнадцатого класса.
– Да, я умею понимать чин, – кивнула немка, показывая пальцем на петлицу его вицмундира. – Итак, господин коллежский регистратор, я вас слушаю.
В этот момент дверь без стука отворилась и в комнату влетела светловолосая барышня с очаровательно раскрасневшимся личиком.
– Фрейлейн Пфуль! Morgen fahren wir nach Kuntsevo![2] Честное слово! Папенька позволил! – зачастила она с порога, но, увидев постороннего, осеклась и сконфуженно умолкла, однако её серые глаза с живейшим любопытством воззрились на молодого чиновника.
– Воспитанные баронессы не бегают, а ходят, – с притворной строгостью сказала ей гувернантка. – Особенно если им уже целых земнадцать лет. Если вы не бегаете, а ходите, у вас есть время, чтобы увидеть незнакомый человек и прилично поздороваться.
– Здравствуйте, сударь, – прошелестело чудесное видение.
Фандорин вскочил и поклонился, чувствуя себя прескверно. Девушка ему ужасно понравилась, и бедный письмоводитель испугался, что сейчас возьмёт и влюбится в неё с первого взгляда, а делать этого никак не следовало. И в прежние-то, благополучные папенькины времена такая принцесса была бы ему никак не парой, а теперь уж и подавно.
– Здравствуйте, – очень сухо сказал он, сурово нахмурился и мысленно прибавил: «В жалкой роли меня представить вздумали? Он был титулярный советник, она – генеральская дочь? Нет уж, сударыня, не дождётесь! Мне и до титулярного-то ещё служить и служить».
– Коллежский регистратор Фандорин Эраст Петрович, управление сыскной полиции, – официальным тоном представился он. – Произвожу доследование по факту вчерашнего печального происшествия в Александровском саду. Возникла необходимость задать ещё кое-какие вопросы. Но ежели вам неприятно, – я отлично понимаю, как вы были расстроены, – мне будет достаточно разговора с одной госпожой Пфуль.
– Да, это было ужасно. – Глаза барышни, и без того преизрядные, расширились ещё больше. – Правда, я зажмурилась и почти ничего не видела, а потом лишилась чувств… Но мне так интересно! Фрейлейн Пфуль, можно я тоже побуду? Ну пожалуйста! Я, между прочим, такая же свидетельница, как и вы!
– Я со своей стороны, в интересах следствия, тоже предпочёл бы, чтобы госпожа баронесса присутствовала, – смалодушничал Фандорин.
– Порядок есть порядок, – кивнула Эмма Готлибовна. – Я, Лизхен, всегда вам повторила: Ordnung muss sein.[3] Надо быть послушным закону. Вы можете оставаться.
Лизанька (так про себя уже называл Елизавету Александровну стремительно гибнущий Фандорин) с готовностью опустилась на кожаный диван, глядя на нашего героя во все глаза.