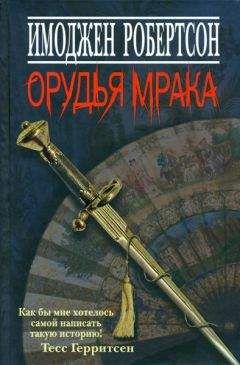— Ах да, сэр. Разумеется, сэр. Я хотел сказать вот что: ваш отец, капитан, убил юную девушку. Обесчестил ее, обрюхатил, а затем убил. Потом, когда ваша матушка произвела на свет наследника и еще одного сына для ровного счета — вы, приятель, были для него необходимым условием, — он погубил и ее. Сбросил ее с лестницы, прямо на моих глазах.
Слова выпадали из желтых растрескавшихся губ Шейпина, словно четкие, круглые жемчужины на нитке, но барабанный бой в мозгу Хью не позволял осознать их. Он ответил автоматически, безжизненно.
— Ты врешь.
— Нет. За тридцать лет я впервые говорю правильную вещь. — Шейпин снова улыбнулся, словно даруя благословение. Облизнул губы, как если бы он смаковал каждое слово. — Лорд Торнли забрал у той девушки медальон. В нем она носила его волосы. Он держал его у себя, дабы не забывать, что он натворил. А потом этот медальон нашла ваша матушка, и он убил ее за то, что она узнала. Она держала эту безделицу в руке, когда умирала. Я был там. Вот что я припомнил на поле, в дыму. — Шейпин выглядел, словно счастливый ученик, получивший похвалу за решенную задачу. — Я видел, как та девушка носила этот медальон. Я слышал, как ваша матушка кричала, падая, и заметил, что лорд Торнли сверху наблюдал, как я поднимал ее у основания лестницы. Я видел кровь на ее губах и медальон в ее руке. Но лишь сегодня, лежа там, на поле, среди травы и под огромным небом, я снова подумал о ней, и все стало ясно.
— Ты лжец. Вор.
Радость стерлась с лица Шейпина, и он покраснел, разбрызгивая слюну.
— Не то и не другое. Ваш отец решил, что, возможно, я все пойму, и отделался от меня поскорее. Тридцать лет в этом ужасном месте, за океан от него, и тут возникли вы, капитан. Вы. Маленький господин Хью. Поначалу я стыдился показаться вам во всем моем позоре. Но потом увидел вас в лагере, и все воспоминания вернулись. И вот, уже лежа в траве, я понял: вы — ничто. Моя кровь куда лучше вашей. Вы сын кровожадной сволочи, честь вашей семьи — просто шутка, а ваше положение фальшиво, вы — чертова зараза, вашими костями даже и собаку-то не накормишь…
Он продолжал говорить, его слова вылетали откуда-то снизу, словно Хью откопал самого дьявола. Барабанная дробь в голове Торнли подхватила ритм речи — убыстрилась и стала громче. Хью почувствовал себя так, словно опять оказался в дыму, по колено в крови; его матушка лежала на редуте в бальном платье, и какой-то мятежник прострелил ей живот кремневым ружьем; юная девушка бежала по траве навстречу его отцу, а тот стоял, выставив перед собой пистолет; тут же был мятежник, которого он ударил так сильно, что был вынужден придавить сапогом, дабы вынуть свой штык, только теперь у мятежника было лицо Хокшоу, и он смеялся над Хью, они все смеялись, провозглашая тосты за отца и его блудницу, смеялись, когда Торнли, спотыкаясь, ковылял по крови к юной девушке; Хью опять ощутил вспышку возле своего лица — удар горячего металла, сваливший его на землю, в кровь. Она текла по нему, попадая в рот и глаза, он барахтался, пытаясь освободиться, но скоро уже все было красным.
Удары замедлились. Он моргнул, осознавая, что стоит на коленях, что его руки на голове Шейпина — одна обхватывала затылок, другая закрывала ему нос и рот. Ладонь Шейпина, видимо сжимавшая его запястье, упала на пол. Хью отдернул руки, и на него уставились мертвые глаза Шейпина. Хью распрямил пальцы, осмотрел ладони — они тряслись. Барабанная дробь стихла. Рассудок его внезапно успокоился, освободился.
Поднявшись на ноги, он направился к двери. Тот факт, что Уикстид вздрогнул, когда Хью проходил мимо, — единственная причина, почему капитан его заметил. С минуту они глядели друг на друга — Хью смотрел невидящим взглядом, Уикстид таращился, открыв рот, — а затем капитан ушел, стук его сапог отдавался эхом, когда он, спотыкаясь, выходил на улицу.
Три недели спустя пришло письмо. Его отца сразил удар, а беременная мачеха просила помощи. Это письмо, видимо, было послано еще до того, как в замке получили его неуклюжие поздравления. Здоровье отца выдержало не больше трех месяцев брака. Новая матушка Хью изъяснялась вполне разумно, и ее рука казалась аристократической, несмотря на опасения, связанные с репутацией этой женщины. Он дважды прочитал письмо леди Торнли, прежде чем надеть парадную форму и обратиться к старшему офицеру с просьбой об увольнении. Если бы Хью был полностью в здравом рассудке, он заметил бы — вероятно, взгрустнув, — с какой готовностью была принята его просьба, и как быстро отыскалось для него место на следующем же корабле, отплывавшем в Плимут.
Вечером накануне отплытия, стоя в окутанном мглой лагере, Хью снова вспомнил об Александре. Мысль о том, что его брат, возможно, где-то далеко, свободен от лорда Торнли, его молодой жены, Шейпина и замка, заронила скромный покой в его душу, и некоторое время кошмары лишь шептались, а вовсе не вопили в его голове. Самая последняя беседа братьев была короткой и осталась незавершенной — когда Александр окончательно покидал дом, он лишь обнял Хью и шепнул ему несколько слов. После разговора с отцом его старший брат побелел как полотно и сказал: «Выбирайся отсюда, Хью. Держись подальше от этого человека». Хью пытался как мог, но его старания ни к чему не привели.
Уикстид нашел его днем, накануне отплытия — Хью чувствовал, что это когда-нибудь случится. Этот человек скользнул к нему, когда Хью смотрел, как в порту загружают корабль, который должен был увезти его домой.
— Капитан Торнли?
Хью развернулся к нему и моргнул. Окликнувший его человек казался неестественно спокойным; он держал перед собой молитвенно сложенные ладони.
— Уикстид.
— Я слышал, вы завтра уплываете. И с сожалением узнал, что ваш отец болен.
Хью не ответил.
— Так значит, вы можете стать лордом Торнли? Даже теперь? — Пусть руки Уикстида не двигались, глаза его по-прежнему сияли.
— У меня есть брат.
— Коего никто не способен отыскать, как я слышал, — заметил Уикстид, глядя на корабль. Хью не ответил. — Лорд Торнли — вот это титул! Вероятно, лорд Торнли может делать все, что ему угодно в этой жизни, вы так не думаете? Но ведь, возможно, и его сын всегда мог вытворять, что хотел. Или думал, что мог.
Хью стало не по себе, когда он вспомнил о последних минутах Шейпина. Он старался не задаваться вопросом, что именно мог видеть Уикстид. Молчание Хью, похоже, воодушевило его собеседника на новую речь.
— Однако, видите ли, капитан, чтобы вести себя, как нам угодно, необходимы друзья. Чтобы они хранили наши секреты. Чтобы оберегали честь семьи. Чтобы поддерживали наше влияние.
Хью сунул руку в карман и достал вексель, который держал там в сложенном виде с тех самых пор, когда командир согласился дать ему увольнительную. Он откашлялся и выпрямился.
— Я не совсем понимаю вас, Уикстид. Но у меня для вас кое-что есть. В знак признательности за ваши заслуги перед полком.
Он вложил вексель в руки Уикстида. Тот развернул его и вытаращил глаза. Хью ожидал благодарностей, а затем с удивлением заметил, что Уикстида начало трясти. На его щеках проступили яркие пятна.
— Пять фунтов! Много ли любви можно купить на них в наши дни, капитан? — Хью был настолько потрясен, что даже отступил на шаг. Придвинувшись к нему, Уикстид зашипел прямо в лицо Хью: — Неужели, по-вашему, моя преданность стоит лишь пять фунтов? Это при том, что я знаю? Я знаю о девушке, о том, что ваш отец — убийца, и о том, что вы ничем от него не отличаетесь. Пять фунтов!
Он смял вексель в руке и бросил на землю между ними. В уголках его губ скопилась слюна.
— Я вовсе не дурак! Я умею писать. Я уже писал. И могу написать снова. Я могу рассказать обо всем, что мне известно, и кто из светского общества осмелится тогда заговорить с вами? Истории вашей семьи будет достаточно, чтобы где-нибудь в мире началась революция. Станут ли друзья ваших жертв кормить вас, прислуживать вам?
Последний вопрос он прокричал прямо в лицо Хью, и в глазах капитана физиономия Уикстида внезапно превратилась в полотно, на коем некий демон снова и снова малевал лица тех, кого Торнли когда-либо обижал, — убитых им людей, обиженных на него женщин, обитателей и детей из его имения, а также Хокшоу, Шейпина, сына Картрайта… Хью отшатнулся, разинув рот.
— Погоди у меня, Торнли! Я приду за тобой. Я вырву твое сердце и сожру его прямо при тебе, а потом заставлю поблагодарить меня за это.
Развернувшись на каблуках, Уикстид пошел прочь. Хью наклонился, поднял смятый вексель, расправил его дрожащими пальцами, а затем, свернув, снова положил в карман.
Среда, 7 июня 1780 года,
улица Саттон неподалеку
от площади Сохо, Лондон
Грейвс снова ворвался в дом с улицы.