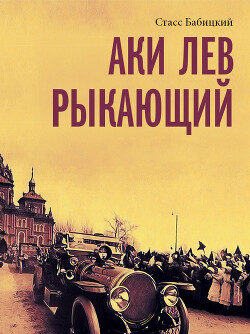могу согласиться, Родион Романович. Не предполагали, что узнаю ваше имя? Удивляться нечему: сведения о вашем прошлом в полицейской картотеке сохранились. Я их изучил, – тайный советник Чарушин слишком ценил свое время и потому безотложно перешел к сути. – И добавил целую главу о неоценимой помощи полиции Москвы и охранному отделению Петербурга. Хотите занять этот кабинет, вместе с должностью? Замолвлю словечко. Прозорливые сыщики нам пригодятся.
– Благодарю, но я уж лучше частным образом. Где же следователь? Пригласил меня и довольно настойчиво, а сам исчез.
– Это я позвал, от имени Хлопова. Кстати, отныне его дразнят Прохлоповым – упустил убийцу фрейлин, прохлопал ушами! Отстранили лопуха от следствия и повелели немедленно прибыть в Петербург для решения дальнейшей судьбы. Сошлют в Сибирь, в ледяную и снежную губернию. Работать дознавателем в каторжном краю… Ирония судьбы меня, признаться, забавляет.
Он поискал глазами зеркало, открыл дверцы шкапа – может внутри? Нет ничего. Странно, неужели прежний обитатель наплевательски относился к своему внешнему виду?! Из кармана выплыл miroir grossissant [126] в черепаховой оправе. Подкрутив усы, Прохор Степанович уселся в любимую позу, на краешке захламленного стола.
– Жаль, не удастся допросить г-жу Крапоткину под официальный протокол. Но довольно и ваших объяснений, представленных вчера в участке на Зубовском бульваре, – он достал из другого кармана документ, вчитался и хмыкнул. – Этот пассаж особенно впечатляет: «После чистосердечного признания и искреннего раскаяния, преступница, против всякого чаяния, вырвалась из кареты, которая проезжала по мосту, перевалилась через огородку и упала в реку. С минуту плыла спиной кверху, но вскоре намокшая юбка утянула ее ко дну…» А в ваших руках остался лишь серый шарф, слетевший с головы утопленницы?
Мармеладов подтвердил.
– С другой стороны, может и к лучшему повернулось. Вдруг эта ваша Анна…
– Моя?
– Уж точно не моя, – от ухмылки его усы по-тараканьи зашевелились. – Вдруг она стала бы запираться, отнекиваться. Поди еще до суда доведи… А присяжные могли сжалиться над поруганной девицей и, не дай Бог, выпустить убийцу на свободу. Нам это некстати, правда?
Сыщик молчал, не мешая ему красоваться.
– Дело Пикового Туза стало достоянием публики. Старый князь Апраксин потребовал отыскать виновных в гибели его сына. Причем не в той, что произошла на рельсах железной дороги. В духовной гибели. Его сиятельство прознал об извращенных маскарадах и поклялся выжечь их с корнем. Учитывая его богатство, связи при дворе, родство с тремя судьями и двумя прокурорами… Выжжет, будьте уверены. Награду назначил немалую. Следователей из Петербурга прислали дюжину – сплошь тайные советники, – но арестовать некого. Ожаровский уехал в Европу. Баронесса повесилась на дыбе – да, представьте, удавилась насмерть нынче утром. Столько всего произошло, пока вы отсыпались до полудня!
– В таком случае позвольте предложить вам, – Мармеладов выложил стопку писем, перехваченную широкой лентой, – путеводную звезду. Секретный архив фон Даниха, в том числе и список общества двойной розы, за который старик Апраксин заплатит сполна.
Чарушин вцепился в бумаги, не веря до конца, что это происходит наяву. Вырвал из пачки один лист, прочел наискосок, другой, третий…
– Вы поистине бесценный человек!
– Да. И хотя цена мне не назначена, но все же вам придется распахнуть кошелек. Купите извозчику Ефиму Быстрякову новую лаковую коляску, и, пожалуй, выдайте позолоченную бляху. Он любит хорохориться.
– А лично вам?
– Мне достаточно заметки в «Ведомостях» про то, как вы утерли нос дюжине высоких чинов из Петербурга. Только пусть ее напечатают за подписью г-жи Меркульевой и на день раньше, чем в «Известиях».
– Даю слово от имени Берендея, моего давнего знакомца!
На прощанье радушно пожали друг другу руки. Когда сыщик был уже на пороге, Чарушин окликнул его:
– Минувшим вечером князь Апраксин увидел сына, раздавленного колесами паровоза… Залитого кровью, без единой целой косточки… Какой дерзостью или жестокостью, – а может статься, и безумием, – нужно обладать, чтобы подойти к безутешному старику и сказать: «Не плачьте о нем, юному развратнику и безбожнику воздалось по заслугам!» Верно ли мне передали слова ваши?
Мармеладов кивнул и вышел.
XLIV
– Отпустил, значит, – недовольно прогудел Митя. – Она мне чуть сердце не вынула, а ты ее на свободу…
Почтмейстер сидел в отдельных покоях особняка Долгоруковых за совсем другим столом. Вместо бумаг и пресс-папье перед ним были: студень, солонина, жареный тетерев, мясной пирог и пирожки с капустной начинкой, каша с грибами, марципаны – коль скоро хватит аппетита на десерт. А, и суп, конечно, как прописал доктор, слуга уже наливал дымящуюся уху из огромной супницы с вензелями.
– Представь себе, отпустил, – примирительно улыбнулся Мармеладов. – Но тебе грех жаловаться. Во-первых, приключение было знатное, в почтовой конторе за год ничего более яркого не происходило. А во-вторых, благодаря этой царапине, ты имеешь возможность задержаться у Долгоруковых подольше.
– Царапине? – Митя насупился сильнее.
– Я встретил лекаря на лестнице, он разрешил забрать тебя домой сейчас же.
– Это он ревнует или завидует, глядя на кулинарные изобилия, которые здесь подают. Ты голоден, братец? Еды хватит на эскадрон, присоединяйся без стеснения…
– Спасибо, но я поспешу. Обещал одному дворянину из далекой деревни поведать подробности об этом следствии, о судьбе Анны, смерти Апраксина и бегстве Ожаровского…
Митя скривился, словно ему пришлось грызть орешки больным зубом.
– Не напоминай про графа.
– Обидно, что эдакую гадину защищал?
– Хуже. Получается: и убийца, и мучитель-садист, – оба избегнут кары? Это уже не просто обидно, а страшно. Вся наша империя, вся мировая цивилизация держится на одном понимании: за любое преступление обязательно последует наказание!
– Юная фрейлина Крапоткина много выстрадала за эти два года, ей и пожизненная каторга покажется медовой коврижкой. Считай, заранее отбыла свой срок.
– Оттого заимела право кровь пролить? – почтмейстер с сомнением рассмотрел тетерева, отодвинул и принялся за мясной пирог. – Ты же сам говорил, оправдаться можно любой идеей и себя обмануть, но меньшим злом при этом не станешь.