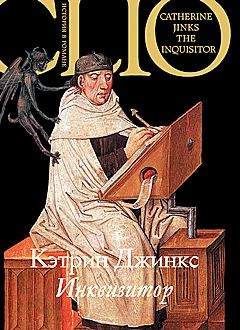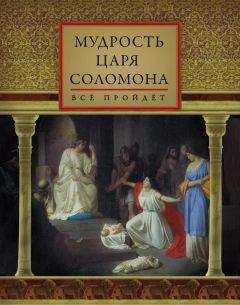И вот, определив камеру, в которой, по моим расчетам, находились Иоанна и остальные, я приблизился и позвал ее, не боясь, что меня услышит далекий дозор.
— Иоанна? — позвал я, нервно вглядываясь в даль каменного коридора. — Иоанна!
— Б-бернар? — раздался ее слабый и полный недоверия отклик. Я собрался снова произнести ее имя, но меня упредил донесшийся откуда-то приглушенный смех. Напрягая слух, я опознал звон кольчуги и топот тяжелых башмаков. Но с какой стороны?
С лестницы, — решил я. Дозор поднимался с нижней площадки.
По счастью, тюрьма в Лазе расположена в одной из сторожевых башен, ибо все городские башни снабжены винтовыми лестницами. И посему я смог отступить наверх, не будучи замечен с нижнего уровня и абсолютно неслышно, благодаря стонам больного арестанта. Притаившись на верхней площадке лестницы, зная, что караульная и ее пленники находятся всего в четырех шагах от меня, я представлял себе схему передвижения двоих вооруженных служащих и молил Бога, чтобы они пошли своим привычным путем.
Обычно они не заходили на верхний этаж, поскольку там не было заключенных. Но если Понс изменил маршрут, то мне угрожала серьезная опасность.
— Господи! к Тебе взываю: поспеши ко мне, внемли голосу моления моего, когда взываю к Тебе, — молил я. — Сохрани меня от силков, поставленных для меня, от тенет беззаконников. Падут нечестивые в сети свои, а я перейду.
Вообразите себе мою радость и благодарность, когда тяжелая поступь, звон оружия, и громкий обмен репликами стали удаляться. Раздался грубый стук и еще более грубый приказ: «Заткнись, или я тебе язык отрежу», после чего установилась мертвая тишина, означавшая, что повеление было адресовано больному узнику.
Я дождался, пока стражников не стало слышно, зная, что они должны обойти весь murus largus, прежде чем снова спуститься в murus strictus. Если я потороплюсь, то успею вывести беглянок впереди дозорных. Но мне придется действовать очень-очень быстро.
А также очень-очень тихо.
Снова добравшись до камеры Иоанны, я не стал возвещать о своем приходе. Я просто снял засов с двери, вздрагивая от каждого лязга и скрипа, и распахнул ее, чтобы воссоединиться с моей возлюбленной. Она стояла передо мной (цела и невредима, слава Богу!) и я бы заключил ее в объятья, если бы обстоятельства более к тому располагали. При тусклом свете она казалась подурневшей; ее волосы были в беспорядке, ее красота померкла. И все же я любил ее еще нежнее, за ее неумытое лицо и нахмуренные брови.
— Идем быстрее, — прошептал я, вглядываясь в темноту позади нее. Хотя камера была рассчитана на одного, она была переполнена, как и все здание. — Вавилония? Идем. Алкея? — И тут я заметил четвертую тень. — Виталия?
— Они принесли ее из лечебницы, — хрипло пояснила Иоанна. — Они сожгли Алкее ноги.
Ее голос осекся; ее дочь начала шумно всхлипывать.
— Тсс…
Я на мгновение растерялся. Мысли табуном понеслись у меня в голове, сталкиваясь друг с другом. У нас только четыре лошади, но Виталия лежит при смерти. Алкея теперь калека, но она сможет сидеть верхом, если руки еще слушаются ее. Может быть, мне снести ее вниз? Отдать ли мне лампу и нож Иоанне? И где теперь стражи? Узники из соседних камер уже начали задавать вопросы, скоро они станут просить выпустить их.
Мой мечущийся взгляд остановился на Алкее. На вид она была очень плоха; ее мокрое лицо блестело в свете лампы. Но ее глаза были ясны, она кротко сносила страдания.
— Алкея, — начал я, простирая руку.
Услышав, она повернула голову и тихо проговорила:
— Идите. Я не оставлю свою сестру.
— У нас нет времени на споры…
— Я знаю. Подойди, дитя. Розочка моя. — И тут я стал свидетелем величайшего, наверное, из чудес. Ибо когда Алкея обняла Вавилонию и зашептала ей что-то в ухо, та перестала плакать. Она, казалось, напряженно внимает Алкее, поверявшей ей некое пророчество, неслышное для нас остальных, которое и сделало Вавилонию на удивление спокойной. Я верю, что в тот момент Алкею направляла рука Божия, смирившая демонов в душе Вавилонии. Вся скованность покинула ее члены; она без возражений позволила Алкее поцеловать себя и, поднявшись тяжело, но покорно, встала рядом с матерью.
Мне вдруг стало ясно, что Вавилонию-то я и не принял в расчет. Что, если ее демон возмутит в ней неукротимую ярость, пока мы будем в пути?
Это была еще одна причина, чтобы поспешить.
— Идем! — торопил я Иоанну. — Быстрее! Пока не вернулась охрана!
— Благослови вас Господь, — с любовью напутствовала нас Алкея. И это были ее прощальные слова, ибо дальше медлить было нельзя. Я вытолкал Иоанну и ее дочь из тесного, зловонного, мрачного каземата, велев им спускаться как можно быстрее. Они поспешили исполнить мой приказ, а я тем временем вновь запер дверь камеры на засов, надеясь, что так наш побег дольше останется незамеченным. Вскоре я уже спускался в murus strictus, идя вслед за Вавилонией и наступая на край ее юбки.
Однако внизу лестницы я обогнал моих спутниц. Не говоря ни слова, я подвел их к двери, которая была предметом моих неустанных тревог. Будет ли она отперта? Пришел ли уже брат Люций? Не натолкнемся ли мы на стража из палаты, идущего в кухню?
Если так, подумал я, я убью его. И я занес нож, готовясь к нападению.
Но, на наше счастье, дверь была отперта, никто нас не ждал в той знакомой приемной, где я провел столько дней, расследуя еретические недуги. Однако там присутствовал странный запах. Это был запах дыма.
— Подождите, — сказал я, встревожась таким оборотом. Подойдя к лестнице, я встревожился еще больше, поняв, что запах усиливается.
Обернувшись, я обратился к своей возлюбленной.
— Подождите здесь, — прошептал я. — В случае чего бегите через эту дверь. Она выходит на улицу. Там вы сможете укрыться.
— А… а вы?
— Я хочу удостовериться, что наш путь свободен, — отвечал я. — Если это так, то я сразу вернусь. Ждите и молитесь.
Мне пришлось взять лампу; у меня не было выбора. Без нее я не смог бы быстро добраться до дверей конюшни или отпереть их. Не сомневайтесь, что я спустился в конюшню, держа нож наготове, но, почуяв, что внизу не так тянет дымом, как наверху, я отбросил свои опасения.
И мое предположение подтвердилось. Никто не кинулся на меня, когда я вломился в этот вонючий подвал; в тусклом свечении своей лампы я не увидел ни метнувшихся теней, ни блестящего оружия, ни фонарей, ни горящих углей. Удовлетворенный, я повернул обратно. Я поднялся по ступенькам, будучи уверен, что это брат Люций зажег жаровню в скрип-тории, ибо запах дыма с каждым шагом усиливался. Я недоумевал, потому что обычно жаровню зажигали только после Рождества.
— Наш путь свободен, — сообщил я Иоанне. — Возьмите лампу и спускайтесь вниз. Там вы найдете большие двери, которые открываются на улицу. Наши лошади ждут снаружи, у этих дверей.
— А как же вы? — спросила она. — Куда вы идете?
— Я должен достать реестр. Как плату за лошадей.
— Может быть, нам подождать…
— Нет. Торопитесь.
Она забрала у меня лампу. Без лампы я оказался в невыгодном положении, ибо путь в скрипторий не освещался; в то время как мои спутницы поспешно спускались в конюшню, я ощупью поднимался наверх, пока наконец слабое свечение не возвестило мне, что я почти добрался до цели. Наверное, я, занятый трудным подъемом (ибо лестница была узкая и очень крутая), не сразу обратил внимание на необычные звуки, доносившиеся из скриптория. Так или иначе, попав туда, я смог прервать созерцание своих башмаков, поднял голову и в тот же миг остолбенел от изумления.
Ибо там я увидел брата Люция, который поджигал свое рабочее место.
С этого момента события начали разворачиваться с огромной быстротой. Но прежде чем изложить их, я хочу описать вам сцену, заставившую меня в изумлении застыть на пороге. Оба сундука с реестрами были раскрыты, и их содержимое было рассеяно по полу. Тут же валялись листы пергамента и копировальной бумаги. Из сундуков, точно из двух соседних костров, вырывалось пламя, и некоторые из лежавших на полу документов тоже горели, а именно те, что были дальше от меня.
Брат Люций, пятясь спиной, лил на пол масло из лампы. В другой руке он держал факел. Было ясно, что он собрался залить весь скрипторий горючим, а потом отступить на лестницу. Но ему было не суждено довести свой план до конца.
Ибо когда я издал изумленный возглас, он от испуга резко обернулся. И в тот же миг сам превратился в пылающий факел: его ряса вспыхнула и загорелась.
В продолжение многих недель, минувших с той ночи, я неотступно возвращался мыслями к причине этого несчастья. Подробности его словно высечены (или, скорее, выжжены) на моей памяти: видит Бог, мне никогда не забыть их. Я помню, что, когда он обернулся, на него выплеснулось масло из накренившейся лампы, которую он держал в правой руке, и одновременно он выронил факел, задевший, должно быть, его залитые маслом одежды.