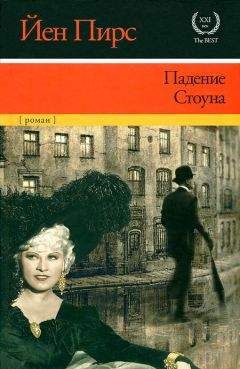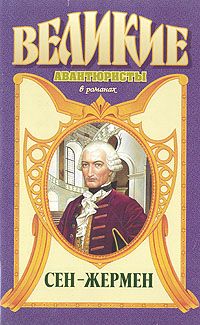Я купил себе пива, пирог и начал ждать появления Макюэна, не в силах сосредоточиться на документах, которые одолжил мне Уилф. Я лишь наполовину продвинулся и с тем и с другим, когда вошел мой редактор. Он был из тех, кто незаметен в толпе, если только сам не хочет, чтобы его заметили. Тем не менее он был приглашаем повсюду и имел доступ в дома великих мира сего. Каким образом? Я никогда не замечал за ним умения вести разговор, он не был сколько-нибудь красив, не имел семейных связей. Мне потребовались годы, чтобы осознать: Макюэн слушает. Когда кто-нибудь разговаривал с ним, кем бы эти люди ни были, они чувствовали, что все его внимание отдано им. Это редкий дар, которого в числе других у меня нет. Я склонен судить людей еще прежде, чем они успеют открыть рот. Макюэн умел вынюхать нужных и интересных равно среди вдовствующих аристократок и среди докеров и убедить их оказать ему доверие.
И вот он здесь, подпертый стойкой, и совсем не выглядит человеком, способным перешучиваться с начинающими выезжать юными девицами или обсуждать тарифную реформу с премьер-министром. Нет, он больше походил на газетчика, собирающегося вновь ринуться в бой. Чуть настороженный, готовящийся к борьбе, которая сопровождает рождение любого номера газеты, весь ее великий цикл от бесформенной идеи до обертки для рыбы и жареной картошки.
— Добрый вечер, сэр, — сказал я.
К нему всегда обращались только так. В мире газеты он был владыкой нас всех. Тот факт, что он сам был всего лишь наемным служащим, отвечающим перед владельцами газеты, никогда никому из нас и в голову не приходил. Собственно говоря, никто либо не знал, либо особенно не интересовался, кто были эти собственники, поскольку их присутствие никогда не давало о себе знать.
— Брэддок. — Это было приветствие не более и не менее дружественное, чем всегда.
— Могу ли я поговорить с вами, сэр?
Он достал из жилетного кармана часы, взглянул на них и кивнул.
— Меня пригласили сегодня познакомиться с некоей леди Рейвенсклифф, сэр.
— Берете?
— Прошу прощения?
— Работу. Поручение, называйте как хотите. Так вы берете ее?
— Предложение очень хорошее. Замечательное. Думаю, я должен поблагодарить вас…
— Да, именно. Отлично. Я подумал, что вы для нее подходите.
— Могу ли я спросить, почему вы рекомендовали меня?
— Потому что держать вас на криминальных историях нерационально, хотя они, без сомнения, неплохи. Но, я думаю, вам следует раскрыть свои крылья. Вам требуется провести время в обществе людей, которых вы не терпите.
— Почему вы так говорите? — Я постарался, чтобы мой голос не дрогнул от обиды.
— Вы слишком симпатизируете людям и упускаете из вида факты. Вы пишите об убийстве, разбираемом в суде, и до того поглощены подробностями, что можете позабыть упомянуть про вердикт.
— Я не отдавал себе отчета, что настолько неадекватен, — сказал я сухо.
— Нет, отдавали, — ответил он просто. — Вы прекрасно это знали. И пожалуйста, не думайте, будто я о вас плохого мнения. Вы были бы хорошим автором редакционных статей. И будете, как только избавитесь от шероховатостей.
— Вы имеете в виду, что я не учился в привилегированной школе, как те, кому вы даете поручения? — сказал я несколько громче, чем намеревался.
— Никого из них я леди Рейвенсклифф не рекомендовал, — сказал он ровным голосом, — так что не оскорбляйтесь. Полагаю, она платит вам целое состояние, а к тому же опыт этот даст вам очень много. Сверх этого, в смерти Рейвенсклиффа есть что-то странное, и я хочу узнать, что именно. И я не нашел, кто бы лучше вас мог это установить.
— Я думал, он упал из окна.
— Да. Открытое окно его кабинета на третьем этаже. Он работал один. Его жены дома не было. Расхаживал взад-вперед и споткнулся о ковер.
— Ну и?
— У него был страх высоты. Не страх даже, а ужас, и он крайне этого стеснялся. Никогда не приближался к открытому окну, если оно было не на первом этаже, и настаивал, чтобы все окна были крепко заперты.
— И леди Рейвенсклифф разделяет вашу тревогу? Она ни о чем подобном в разговоре со мной не упомянула.
Он взглянул на меня искоса, и я понял, что именно он подозревает.
— Вы думаете…
— Все, что я знаю, Брэддок, что это дело крайней важности.
Сказал он это с особой напряженностью, и я не вполне понял, что стояло за его словами.
— Почему?
— Потому что, — сказал он негромко, — «Кроникл» принадлежала Рейвенсклиффу. И я не хочу, чтобы она попала не в те руки. Узнайте для меня, пожалуйста, что говорится в его завещании, как распределятся его активы. Кто наш новый хозяин.
До моего жилища я дошел пешком, как часто поступал, когда мне требовалось поразмыслить. От Сити до Челси более шести миль, и прогулка эта заняла более часа, хотя всю дорогу я не сбавлял быстрого шага. Вид покрашенной черной краской двери не вызвал у меня даже намека на теплую радость, какую должно испытывать, вернувшись домой. Эта же дверь отделяла меня от запахов вареной капусты и мастики для натирки полов, накапливавшихся в перенаселенном здании, окна которого не открывались четверть века. Прокопченный дом на прокопченной улице в прокопченной части города. По моему убеждению, почти каждый второй дом принадлежал вдове, сдававшей комнаты жильцам вроде меня. Прямо напротив ютилось училище для молодых девиц, прививавшее им навыки лихо барабанить по клавишам пишущей машинки, чтобы они могли отнимать у мужчин места копиистов или клерков. А некоторые дома принадлежали лавочникам или клеркам, из последних сил цепляющимся за респектабельность. Все грани жизни людей, слагавшихся в этот слой общества, таились на Райской Аллее за немытыми окнами и растрескавшейся штукатуркой. Райская Аллея! Трудно вообразить улицу, названную настолько невпопад. Могу только предположить, что спекулянт, примерно полвека назад сварганивший эти скверно построенные, абсолютно безликие хибары, обладал чувством юмора особого рода.
И даже еще более скверным было то, что мое окно на третьем этаже в задней части дома выходило на великолепные сады и прочую роскошь богемного Лондона. Преуспевающие художники заселили Тайт-стрит, улицу, параллельную моей, но отражающую совсем иной образ жизни. Особенно хорошо мне был виден сад, где я мог наблюдать двоих детишек — одетых во все белое, — пока они играли под солнечными лучами; обворожительную женщину, их мать; их дородного отца, члена Академии. И грезить о подобном идиллическом существовании, столь непохожем на мое собственное детство, в котором солнечного света отнюдь не было.
Не все журналисты — редакторы. Не все художники — члены Академии. Джон Пракситель Брок, мой сосед за стеной, успеха тогда не имел. Его мучения из-за необходимости созерцать антураж недостижимой славы на соседней улице уравновешивались его желанием соприкасаться со знаменитостями, которые могли бы поспособствовать его карьере. Иногда он возвращался домой, искрясь волнением и гордостью. «Я нынче пожелал доброго утра Сарженту!» Или: «Генри Макальпин сегодня купил пинту молока в очереди передо мной!» Увы! И тот и другой редко желали ему доброго утра в ответ. Возможно, их отпугивала его отчаянная настырность; или же тот факт, что его отец скульптор (откуда его второе имя) был отпетым ретроградом с очень скверным характером; возможно, они полагали, что молодость должна сама прокладывать себе дорогу. И теперь преуспевший Брок тоже не слишком-то способствует другим.
Утром я проснулся страшно голодным, потому что накануне вечером почти ничего не ел и много ходил. Поэтому я быстро оделся и спустился в обеденную комнату, где миссис Моррисон каждое утро готовила завтрак для «своих мальчиков». Она была единственной причиной, почему я оставался в этом доме, и, полагаю, то же относилось ко всем ее жильцам. Как домоправительница она была почти безнадежна, а как кухарка — и того хуже. Ее завтраки граничили с непристойностью, а вечером овощи она варила с такой энергией, что нам еще везло, если они были не более чем желтыми, когда вываливались на тарелку в лужицу горячей воды, чтобы смешаться с серыми жесткими кусками мяса, которое она готовила сугубо своим способом, и еще никому не удалось выяснить, как именно она преобразовывала некогда живую тварь в подобное безобразие. Филипп Мулреди, уповавший снискать славу стихами (позднее он удовольствовался богатой невестой), иногда декламировал вирши в честь бедного животного, заколотого на алтаре миссис Моррисон. «Тут ты лежишь, о злополучный боров, столь бледный, серый и поблекший». Хотя, щадя чувства нашей хозяйки, он удостоверялся, что она на кухне, когда Каллиопа осеняла вдохновением его чело.
Но в любом случае она вряд ли уловила бы иронию. Миссис Моррисон была хорошей женщиной, вдовой, прилагающей все усилия, чтобы выжить в этом безжалостном мире. И пусть еда была отвратительной, а каминная полка густо заросла пылью, но она творила атмосферу такого теплого дружелюбия! И не только это. Она охотно чинила нашу одежду, стирала наше белье и оставляла нас в покое. Взамен она ждала умеренную плату за комнату и иногда малой толики нашего общества. Фунт в неделю и часок болтовни. Сущие пустяки.