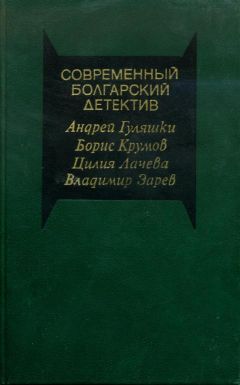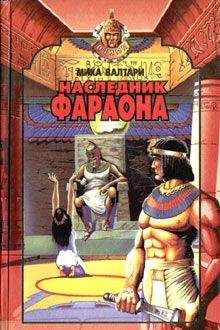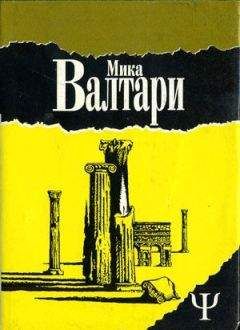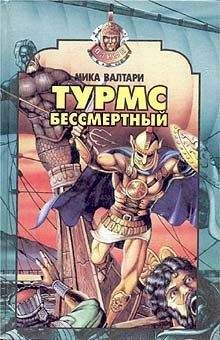Врезавшись ночью в дерево, угнавшие машину молодчики совсем взбесились. Им попался беспомощный пьяный старикан, и они в остервенении набросились на него, ударили в лицо, а потом — боясь, быть может, что он станет кричать и звать на помощь, — забили его до смерти и труп спрятали в кустах.
«Мы можем, разумеется, надеяться, что это происшествие — случай единичный и исключительный, — лицемерно писал автор, — но всякий здравомыслящий человек согласится, что этому разгулу все-таки есть предел. Такое случаться не должно. В Финляндии. В нашей стране. В центре Хельсинки. Пусть юнцы режут ножами друг друга, если им нравится. Но мучить и убивать беззащитных стариков мы не позволим».
«Что делает полиция?», — прочитал я жирный подзаголовок, и кровь прилила у меня к лицу.
«Этого я не знаю, — просто отвечал автор. — И не хочу знать. Зато я знаю, что хрупкая женщина, гулявшая со своей маленькой собачкой и нашедшая тело, была на грани нервного припадка от потрясения и что она, даже не назвавшая своего имени, была хладнокровно брошена в том же самом безлюдном парке одна и находилась рядом с телом, пока полиция наконец не явилась, чтобы забрать убитого. Чего же ждать от молодежи, когда власти предержащие ведут себя с подобной черствостью и бессердечием!»
Далее автор влез в шкуру ягненка и продолжал со всеми осторожностями:
«У меня и в мыслях нет подозревать полицию в том, что она не обследовала надлежащим образом место происшествия, и я спешу подтвердить, что те, кто осматривали разбитый автомобиль, продемонстрировали высокий профессионализм. Но все же если спустя некоторое время выяснится, что в расследовании имеются упущения, если обнаружится промедление в задержании преступников, то этого наше общество простить не сможет, и тогда придется заняться более основательной чисткой, а не отыгрываться на двух-трех подвернувшихся битниках».
Ну что ж, вряд ли писака мог сочинить что-нибудь похлеще. Я почувствовал себя конченым человеком. Скромная должность судебного исполнителя где-нибудь в провинции виделась мне как предел мечтаний. У меня были сомнения, нанимает ли конголезское правительство способных полицейских: ведь я знал французский, а это несомненное преимущество.
Я вздрогнул, очнувшись от своих скорбных мыслей, и обнаружил, что мы уже давно стоим перед патологоанатомическим отделением. Н-да, похоронные мечты, подумал я. Палму сидел рядом со мной с непроницаемым лицом, сложив руки на груди, а Кокки скромно глядел в пол.
Заметив, что я закончил чтение, Палму сказал:
— К счастью, это не попало на первую полосу. Наверно, по техническим причинам. Но ничего, завтра ты услышишь еще не такое. — И он многообещающе покивал головой. — В воскресных газетах. Передовицы, читательские письма…
Я перевел дух.
— Потому что нет настоящего сотрудничества, — с горечью сказал я. — Я ли не призывал к этому! Боже милостивый, да если бы передо мной лежал рапорт дорожно-транспортной группы, где было бы сказано, что в считанных метрах от этого места врезалась в дерево угнанная машина, то, уж наверно, я сложил бы один плюс один и начал бы принимать меры.
— Неужели? — Палму иронически посмотрел на меня.
Но сейчас его насмешки меня не трогали.
— Сотрудничество! — с унылым упорством повторил я. — Но нет. Вещь нереальная. Восток есть восток, а запад есть запад, и им никогда не сойтись.
— Ну, не стоит примешивать сюда большую политику, — ехидно заметил Палму и начал неуклюже вылезать из машины, кряхтя от боли — ревматизм в колене давал себя знать.
Вялый и покорный, я выбрался следом, и вдруг меня словно током ударило.
— А место происшествия! — в ужасе закричал я. — Его же надо оцепить!
— Там десять человек из полиции порядка и, кроме того — на всякий случай, — двое конных полицейских, — сказал Палму. — Я взял на себя смелость распорядиться. От твоего имени, разумеется. И еще человек двадцать прочесывают весь парк.
— Но, — удивленно пробормотал я, — но ведь это дело городского отдела по парковой зоне…
И тут я осекся. Кокки отвернулся в сторону, прикрывая рукой рот. Улыбался, наверно.
— Ну конечно, разумеется, парк необходимо тщательно обследовать, — поспешно продолжил я и опрометчиво шутливо заметил: — Но уж с конной полицией ты, пожалуй, переборщил.
— Полиция в парке не для того, чтобы охранять следы и улики, — наставительно сказал Палму, выколачивая трубку о каблук. — Все следы давно затоптаны. Но тебе пора наконец понять, что как только газета попадет к разносчикам, а от них к подписчикам, начнется такое перемещение народов, что не дай… Сегодня, между прочим, суббота — не забывай.
— Не забываю, — уныло повторил я.
— Поэтому возможна небольшая заварушка, — невозмутимо продолжал Палму. — Какой-нибудь стиляга или битник вздумает скорчить рожу, а его побьют. Вот чтобы этого не случилось, там и нужны полицейские. В том числе конные.
— Чтобы… чтобы защищать этих?! — переспросил я, не веря своим ушам.
У меня в мозгу началось какое-то брожение, мысли стали путаться, и я вынужден был потереть лоб.
— Именно, — с готовностью подтвердил Палму. — Они такие же люди. Как бродяги, например. Кроме того — возвращаясь к теме сотрудничества: я отдал распоряжение — от твоего имени, только от твоего имени, разумеется! — чтобы все подозрительное, что имело место вчера вечером в городе и в пригородах, было выбрано из всех рапортов и представлено нам. И впредь — обо всем подозрительном немедленно докладывать лично мн… — то есть тебе. Все равно, какая группа обнаружит.
Он с участием взглянул на меня, тщетно пытавшегося привести свои мысли в порядок.
— Это сотрудничество, — пояснил он. — Ведь ты к этому призываешь второй год. Ну вот — теперь ты этого добился. Поэтому мы поехали на машине, снабженной рацией. Иначе зачем, как ты думаешь, я стал бы на ней разъезжать. Тем более в субботний день, когда патрульных машин и так не хватает?
— Но… — сказал я.
Из машины послышался треск включившейся рации, передняя дверь распахнулась, и водитель крикнул мне:
— Вас вызывают!
Я кинулся бегом к машине, всунул голову внутрь и, запыхавшись, проговорил:
— У телефона командир группы по действиям, направленным на нанесение… а ч-черт, командир группы по расследованию убийств слушает!
— Говорит пятый, — прохрипела рация. — Нам было велено немедленно докладывать обо всем подозрительном. Так вот: тут на углу улицы Маннергейма и Бульвара какой-то базар. Вокруг продавца газет. Толкаются и даже дерутся. Продана пока только первая пачка газет.
— Пусть базарят, — сердито сказал я.
— Ага, — согласился голос. — Со стороны улицы Людвига бегут ребята, у них под мышками здоровые кипы. Экстренное сообщение, что ли. Ладно, пока все. А то я сам еще не успел посмотреть, сейчас куплю у них пару газетенок.
— Купите, почитаете в свое удовольствие, — иронически сказал я в микрофон. — Только не забывайте о служебных обязанностях!
На том конце не поняли иронии.
— Спасибо, — искренне поблагодарил голос. — Отлично!
А я направился в патологоанатомическое отделение.
За «бродягу» еще не принимались. Он даже не был помещен в морозильную камеру. Лежал на гладком столе, как его положили, сняв с носилок, — в той же одежде, тех же башмаках. Я сразу узнал его изуродованное лицо — по снимку в газете, сделанному крупным планом. В этом ледяном зале, под ослепительно ярко горящими лампами его лицо казалось куда меньше, чем на впечатляюще страшной фотографии.
У сторожа был виноватый вид, хотя, очевидно, никакой его вины тут не было. Иногда проходит много дней, пока у врача дойдут руки до клиента, если, конечно, случай не экстренный.
— Не было бы счастья… — многозначительно сказал Кокки и сложил молитвенно руки.
Палму кивнул. Я не понял. Неужто Кокки стал таким набожным?
Палму обернулся к сторожу и приказал:
— Живо ступай за доктором и приведи сюда. Кого угодно. Хоть самого профессора. Одна нога здесь, другая там. Действуй!
Сторож не решился возражать и потрусил к двери. Почти бегом.
— Дело в том, — сказал Палму, торопливо набивая трубку, — что он должен был раздеть старика, связать вещи в узел, а тело до прихода врача упрятать в морозильник. Н-да, — продолжил он, покачивая головой, — в наше время уже нельзя быть уверенным, что все будет сделано, как положено. Но нам это оказалось на руку. На этот раз.
— Здесь нельзя курить, — произнес я, не зная, что и сказать.
Палму, видимо, не услышал. Он зажег спичку и стал раскуривать трубку, разглядывая в то же время башмаки старика, штанины и руки.
— Кроме того, — медленно проговорил он, — это никакой не «бродяга». Разве я не спросил у тебя сегодня утром, откуда тебе известно, что это «бродяга»?