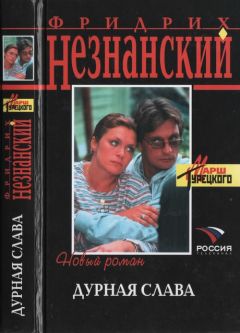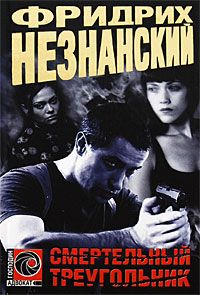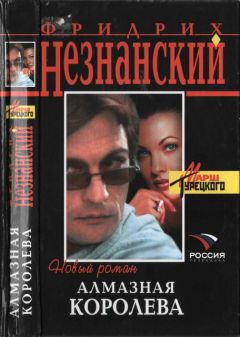Ознакомительная версия.
— Миленько, — пробормотал Манцевич.
— А был еще случай, — воодушевлялся писатель, — я даже использовал эту историю в одной из своих работ. Невеста с женихом накануне свадьбы крепко полаялись. Девушка была эмоциональная, вспыльчивая, выхватила из серванта пивную кружку, треснула любимого по макушке и убежала на кухню. Макушка оказалась слабой, череп треснул, жених скончался, не приходя в сознание. Полночи она его трясла, умоляла проснуться, кричала, что все простит, потом сообразила, что женихов на свете много, а жизнь одна, позвонила маме, рассказала свою печальную историю, поинтересовалась, есть ли у мамы дельные мысли? Как она относится к такой теме — избавиться совместными усилиями от тела и состряпать дочери алиби? Мама пришла, посмотрела на это безобразие… и сдала дочь правоохранительным органам. Правильно, охота была связываться с этой тупой истеричкой. Себе дороже. У мамы была полноценная жизнь, новый муж с большими деньгами…
— То есть вы допускаете мысль, что в убийстве могут быть замешаны Лаврушины и Ксения? — перебил Турецкий.
— Да боже упаси, — испугался Феликс. — Аномалии случаются, но это не тот случай. Ксюша — девушка с головой, а не только с прической. С родителями Николай никогда не ссорился — он любил мать, а мать безумно любила его. Как не любить такого одаренного, практически без изъянов паренька? Она гордилась им…
— А Иван Максимович — рохля, — усмехнулся Турецкий.
— Вы не понимаете, — поморщился Феликс. — Они вчера приехали на моих глазах. Николай шутил с Ольгой Андреевной и приемным отцом. Я видел, как они разговаривали. Случись натянутость, я бы ее почувствовал. А то, что они повздорили о чем-то с Ксюшей — то дело молодое. Полагаю, на данный момент у вас с женой также не полная идиллия, нет? — Феликс по-приятельски подмигнул.
Турецкий проглотил уже слетающую с языка реплику.
— Хорошо, — сменил он тему. — Мы с вами хорошо продвинулись, господа. Итак, что мы имеем? Лаврушины и Ксения к злодеянию не причастны. Так?
— Так, — подумав, признал Феликс.
— Присутствующие в этой каюте — тоже. Верно?
— Уж я-то точно, — засмеялся писатель. — Зачем мне убивать паренька, к которому хорошо относился? Или, если начать издалека, почему я оказался ночью в его каюте? Это нонсенс. Имей я жгучее желание с ним поговорить, я бы сделал это до отхода ко сну.
— Логично, — пробормотал Турецкий. — Какого черта вам к нему переться, не зная, находится ли у него в каюте Ксения?..
— Вот именно, — оживился писатель, — разве что свечку подержать.
— И вы не виноваты, — повернулся Турецкий к Манцевичу. Увы, за четверть часа общения этот тип не сделался ближе и роднее. Находиться рядом с ним было по-прежнему неприятно и дискомфортно.
— Я спал, Турецкий, — поморщился Манцевич, — неужели не ясно?
— Трибуналу все ясно. Итак, пятерых мы уже исключили. Добавляем к этому списку супругов Голицыных — уж им-то этот кошмар нужен меньше всего. Сюда же плюсуем до кучи Робера с Николь — парочка, конечно, любопытная для психологов и, я думаю, психиатров, но зачем им совершать убийство в чужой стране человека, которого они практически не знают? К списку непричастных с удовольствием добавляем телохранителя Салима — этот парень выполняет свои обязанности, а в них не входит мочить пассажиров яхты. А также обоих матросов — парни трудятся по найму, и сомнительно, чтобы они водили знакомство с молодым Лаврушиным. И довели это знакомство до такого абсурда, что пришлось его убить. Поздравляю, господа. Кто у нас остается в списке подозреваемых?
— Герда, — составив мысленно «видеоряд», сказал Манцевич.
— Ух, злодейка, — пробормотал Феликс.
— Пойдемте брать, — вздохнул Турецкий. — Мы выведем ее на чистую воду. Она у нас во всем признается. Что же вы, господа? Мы раскрыли преступление, осталось выяснить мотив и некоторые технические детали.
Никто не сдвинулся с места. Феликс с интересом разглядывал дверь, снабженную круглым окошком из ребристого непрозрачного стекла. Манцевич разлепил плотно сжатые губы.
— Турецкий, на вашем месте лучше лишний раз не проявлять сарказм…
Все это было полной бессмысленностью. Здравый смысл подсказывал, что на яхте произошло убийство по неосторожности. Виновник молчит, это дело виновника. Но интуиция боролась со здравым смыслом, настаивая, что в этом деле есть что-то еще. Оно или уже проявилось (никем не замеченное), или в скором будущем проявится, и кому-то тут не поздоровится. На определенные размышления наводило и поведение Голицына. Тот чего-то боялся. А если боялся, какого черта отправился в плавание? Сидел бы дома за своими каменными (или какие там у него?) стенами…
Прибыли вызванные Манцевичем матросы. Глотов — рослый, мускулистый, с короткими волнистыми волосами и живым взглядом. Шорохов — угрюмый, коренастый, с массивной челюстью и короткой стрижкой. У последнего действительно было что-то не в порядке с правым глазом — его движения вроде бы повторяли движение левого, но отличались цветом и производили впечатление мутного стекла. Они в задумчивости постояли над телом. Шорохов стащил с кровати простыню, расстелил на полу. Николая перевернули, закутали в «саван». Один взял за ноги, другой под мышки. Феликс украдкой перекрестился и сгинул. «Траурная процессия», возглавляемая Манцевичем, двинулась по коридору. Добралась до кормовой части, повернула на лестницу, ведущую в машинное отделение. Трюм оказался гораздо вместительнее, чем можно было представить. Пролетом ниже расположилась низкая дверь. Холодильная установка, — значилась надпись на английском. Хотелось бы верить, что все продукты, если они там были, заблаговременно унесли. Глотову пришлось согнуться в три погибели, чтобы втиснуться в проем. В небольшом помещении, где вспыхнул свет, находились два вертикальных холодильных шкафа и горизонтальный стальной ящик, отдаленно напоминающий комод. Дверцы раскрылись, как половинки разводного моста. Из вместилища пахнуло стужей. Дружно крякнув, матросы взвалили тело на край ящика, перевели дыхание, опустили вниз. Дружно перекрестились, при этом как-то недоверчиво посмотрели друг на друга, закрыли установку. Манцевич провернул рукоятку, похожую на древний переключатель телевизионных каналов…
Он провалился в оцепенение, из которого его вывел недовольный голос Манцевича:
— Идете, Турецкий? А то смотрите, могу закрыть по забывчивости. Через час встретитесь с Николаем.
Он выбрался из задумчивости. Матросы уже удалились. Турецкий вышел, пригнув голову. Манцевич хлопнул дверью, покосился на него без всякого почтения.
— Работайте, Турецкий, солнце еще высоко…
Он терялся в догадках — что тут можно сделать? Часть пассажиров относится к тебе с недоверием, часть с иронией, другим он откровенно не нравится (и правильно, между прочим, делает). Он стоял в полутемном закутке между двумя трапами, чувствовал, как возвращается мерзкое состояние. Видимо, вторая волна… Он подавил в себе желание мгновенно выбежать на улицу, вылить в море все, что съел, прислушался к гулу, исходящему из машинного отделения, начал осторожно туда спускаться.
Работал генератор, исторгая утробный гул и специфическую вонь мазута. В килевой части судна царил полумрак. Перемещались тяжелые поршни, из чего можно было заключить, что судно не стоит на месте, а куда-то, все же, плывет. Работал кривошип, нервно подрагивали дисковые манометры с нервными стрелками. Из-за ящика с электрическим оборудованием высунулся матрос Глотов — он уже приступил к своим обязанностям, что-то подкручивал в невообразимой груде металла. Вопросительно глянул на Турецкого. Тот предупредил жестом: все в порядке, просто любопытная Варвара заглянула на минутку. Присутствие постороннего Глотову не понравилось, он что-то проворчал под нос, вытер руки о масляную ветошь, отвернулся, открыл пластмассовый саквояж для слесарного инструмента.
Разговаривать в этом грохоте не хотелось совершенно. Он удалился из машинного отделения, отложив это удовольствие на неопределенное будущее.
Глотнув свежего воздуха, он вернулся в закрытую часть нижней палубы.
На вкрадчивый стук никто не отозвался. Стучать громче было неприлично. Он толкнул дверь.
— Прошу прощения, вы позволите?
Вошел, осуществляя беглый «мониторинг» помещения. Просторная каюта, большая кровать, тумбочка рядом с кроватью, на тумбочке сферический стеклянный светильник с нанесенными бледными красками очертаниями материков и океанов. Светильник-глобус, и чего только не выдумают… В каюте остро пахло лекарством — сердечными каплями на спирту. Запах горя (хорошо, что не смерти). На кровати под махровым полотенцем размером с простыню кто-то лежал. Турецкий в нерешительности помялся. Женщина — судя по скрюченности. Их излюбленная поза — на боку, поджав колени к подбородку — когда им холодно, страшно, одиноко, больно на душе…
Ознакомительная версия.