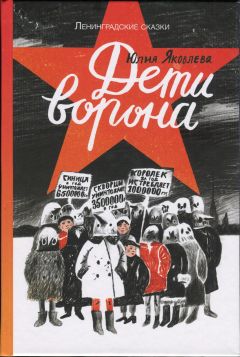Ознакомительная версия.
По темным улицам Зайцев шел к себе на Мойку. Он поигрывал ключом в кармане и чувствовал, как постепенно тяжелеет, намокая, пальто. Бросалось в глаза, что на домах почти нет вывесок. Еще год назад они вопили и зазывали с каждого угла, теснились. А потом вдруг разом облезли с фасадов. Без них город казался умолкшим. Беднее, строже. Темнее. Дождь заливал за шиворот, капал с козырька кепки.
Превратился в холодные струи душа.
В общей ванной было темно. Горячей воды не оказалось. Сквозь маленькое окошко под потолком видна была голова уличного фонаря. Свет Зайцев зажигать не стал.
Вонючая одежда, которую он не менял последние три месяца, валялась на полу. Зайцев стоял во весь рост в ванной. До революции она была богатой и роскошной. Сейчас – страшной: с облупившейся там и тут эмалью, как в парше. Зайцев стоял под душем, тело чуть не вопило от ледяных игл, но он чувствовал блаженство. Вода смывала тюрьму, допросы, камеру, а заодно и ночной Смольный, и товарища Кирова с его электрическим шапито, и в темноте ванной они казались уже просто сном.
По мертво спящему коридору, мимо храпа, сопения, клекота соседей Зайцев вернулся в свою комнату. Белела застеленная Пашей постель. Пальто осело на стуле тяжелой грудой и испускало нестерпимый запах псины и нафталина.
Зайцев дернул оконные шпингалеты, толкнул раму. После ледяного душа тело горело. Дождь барабанил по карнизу. Хлестала вода в водосточных трубах. Даже черная Мойка будто клокотала. Тучи прорвало, и на миг, как око, показалась луна. Глянула и скрылась.
Зайцев размахнулся и ахнул пальто из окна. Оно полетело вниз, взмахнув рукавами, как птица, которая никогда и не умела летать. А потом тяжко шлепнулось на тротуар.
Фотографии были готовы.
Зайцев отметил, что ретушер постарался. Открытые глаза выглядели живыми, даже осмысленными. Если только не знать, что снимки сделаны, когда эти люди были уже мертвы. Крачкин настоял, чтобы трупы приподняли вертикально: мол, как в жизни. Но все-таки в лицах видна была неживая неправильность черт. Запавшие губы, провалившиеся щеки, заострившиеся носы. Они напоминали английские фотографии, оставшиеся от времен королевы Виктории и тогдашнего обычая сниматься на память с уже покойными родственниками.
«А впрочем, если не знать, то, может, ничего странного и не покажется», – подумал Зайцев.
Три женщины: две молодые, лет двадцати пяти, и одна старуха. Имена еще предстоит выяснить. Что их связывало с американским коммунистом Оливером Ньютоном? Зайцев опасался, что ответ окажется простым: две шалавы и старуха-бандерша. Он снял телефонную трубку.
– Мартынов? Спустись с фотками в картотеку. Пробей там, не числятся ли все три девушки у нас. Угу. За нетрудовой образ жизни. И старуха. Притон тоже кто-то содержать должен.
Крачкин потянулся с дивана, взял со стола снимки, посмотрел, склонив голову, словно оценивая чужое вмешательство в свою работу:
– Ничего так. Только блондинке глаза можно карие было сделать. Блондинка явно пергидрольная.
И сел обратно, заложил ногу на ногу. Там же, на подлокотнике помещался Самойлов. Серафимов, как обычно, выбрал подоконник.
Нефедов уехал опрашивать служащих Елагина острова. Работы было столько, что уже не до манипуляций было; пришлось вовлечь и его.
– Из гаража звонили, – просунулся в дверь дежурный. – Карета подана.
Товарищ Киров не обманул. Бригаде Зайцева выделили два «Форда».
– Вот это дело, – довольно сказал Самойлов. – Не то что ноги топтать.
К его неудовольствию, на машинах тотчас отправили Серафимова и Нефедова.
– А чего этого, Нефедова, на фотографию не перебросили? – поинтересовался Зайцев. Он помнил, что Крачкин всегда жаловался на эту дополнительную нагрузку, отнимавшую у него немало ночных часов.
Крачкин раздвинул губы в улыбке:
– Я разве жалуюсь? Не жалуюсь. На пенсии всегда приработок найду: в фотоателье устроюсь. Буду снимать дембелей, невест и младенцев.
– А, – коротко ответил Зайцев. И передал ему снимки.
– Печатаю? – переспросил Крачкин, вставая.
– Да, их надо разослать по всем отделениям и раздать участковым. Пусть обойдут население. Может, кто из соседей объявится.
Три жертвы по-прежнему оставались неизвестными.
В дверь заглянул эксперт Виролайнен и взмахнул желтой картонной папкой.
– Вскрытие.
Зайцев быстро пробежал глазами заключение патологоанатома. Две детали привлекли его внимание.
– В крови всех четверых – большая доза морфина, – вслух произнес он. – Именно она стала причиной смерти. Самойлов, проверь, обращались ли аптеки или заводские медпункты с заявлениями о пропаже наркотика.
Самойлов молча сделал несколько значков в блокноте.
Зайцев поднял на него взгляд. Самойлов сидел молча. Обычно у него всегда было что сказать. Морфин, например. Если верить статистике, больше всех злоупотребляли морфином те, у кого к нему был доступ: медики. Затем шли проститутки – главные продавщицы наркотика.
Зайцев почувствовал себя как циркач, который внезапно не обнаружил на трапеции партнера.
Он не подал виду и снова углубился в заключение.
Татуировок на трупах не оказалось. Морфий как будто поддерживал версию о притоне: баловались и не рассчитали. Отсутствие татуировок ее опровергало: девицы, может, еще не успели обзавестись рисуночками, но на бандерше наколки точно были бы.
– Самойлов, а у тебя что? Нарыл мамаш?
– В приемной сидят.
– Много? – Зайцев поднялся из-за стола.
– Как сказать, – загадочно ответил Самойлов.
Сколько в Ленинграде пропадает младенцев за год, статистика не ведала. Врач в клинике Отта сказала, что младенцу месяца три. Самойлов собрал все заявления за последние три месяца.
– Зови же.
Из приемной робко проскользнула и тут же уставилась в пол женщина рабочего вида. За ней быстро просочился мужичок в кепке. По виду – муж и жена.
Но вид обманул.
– Я первый пришел! – напористо уточнил мужик. Женщина пугливо подалась в сторону.
– Ты тут порядки свои не учреждай, – строго приказал ему Зайцев. – Здесь очередь я устанавливаю.
Мужичок огляделся, снял кепку, пригладил ладонью седоватые жесткие волосы. Он внешне напоминал пролетарского писателя Максима Горького. Зайцев испытал мучительное желание отклеить с его лица большущие табачные усы. Женщина подняла на него утомленные глаза. Вид у нее был как у большинства ленинградских пролетарок – замученный. Зайцев дружелюбно посмотрел на нее:
– Вы, товарищ, по поводу младенца?
– Да, – ответила женщина.
– Соседки, – одновременно ответил мужчина. И тут же заговорил, опасаясь, что его перебьют: – Младенец-то не мой. У меня что. Соседка. В квартире нашей. Наташка. Наталья Петровна Шапкина. Комсомолка, – со значением подчеркнул он. – То вот она все с пузом ходила. А пузо свое все прятала. Будто соседям не видно! А то вдруг – нет пуза. И младенца нет! Куда дела? – вопрос для нашей советской милиции.
– Разберемся, товарищ, – хмуро сказал Самойлов.
– Так я ж не ради себя, – ткнул себя в грудь максим горький. – Наташку эту гнать с комнаты надо. Проститутка она, а не комсомолка. Только комнату занимает. Жилтоварищество позорит. Бросает тень. Гнать ее надо. И с работы, и с комсомола, и с жилплощади. А комнату ейную приличным людям отдать.
Максим горький явно имел в виду себя. Квартирный вопрос очень испортил нравы ленинградцев.
Зайцев не осуждал усача. Поди, у самого дети, и жена, и родители еще наверняка – все втиснуты в одну комнатушку и спят по очереди.
– А вы? – обратился он к женщине.
– Да все в заявлении изложено, – устало отозвалась она.
– Марья Герасимова, – ответил за нее Самойлов. – Вчера ребенка украли прямо из коляски. Мальчик. Оставила у булочной. На Международном проспекте.
Женщина не выдержала и заплакала.
– Фотография имеется?
Женщина, сморкаясь, покачала головой.
– Куда. Окрестить не успели. Хорошенький, как ангел. Волосики золотые.
– Вот вы советская женщина, а туда же, – мягко упрекнул Зайцев. – «Окрестить», «ангел». Сколько вашему малышу?
– Петровым постом родился.
Самойлов хмыкнул:
– Вы бы эти поповские штучки бросили, гражданка.
Зайцев прикинул: возраст подходящий.
Как знать, подумал Зайцев: для кого-то беременность была жизненной катастрофой, а кто-то тщетно мечтал о ребенке. Перепробовал врачей, попов, ворожей и знахарей. И тут – случай. Хорошенький белокурый младенец. Просто вынуть из коляски прямо в одеяльце. Международный проспект, движение оживленное. В трамвай – и ходу. Кто заподозрит неладное в гражданке с плачущим свертком?
Тем не менее Самойлов поехал с Герасимовой в клинику Отта, где найденыша лечили от пневмонии.
Максим горький, закусив за щекой язык, тщательно выводил карандашом заявление.
Зайцев смотрел в окно. Ему жаль было и эту комсомолку Шапкину. На танцах, на гулянье в парке, на садовой скамейке случилась, поди, короткая комсомольская любовь. Кавалера ищи теперь свищи. А одна с младенцем не много же сможешь. Зайцев знал наперед, как будет запираться комсомолка Шапкина: упала, тяжелое подняла, надорвалась. И как потом расколется, рыдая и сморкаясь. Ну выгонят ее из комсомола, ну уволят – кому от этого легче? Что это за социалистическая справедливость?
Ознакомительная версия.