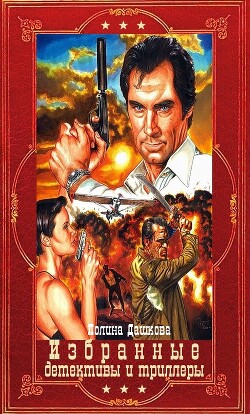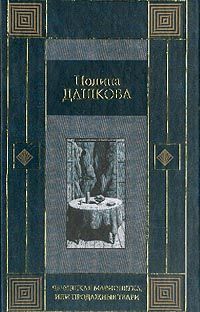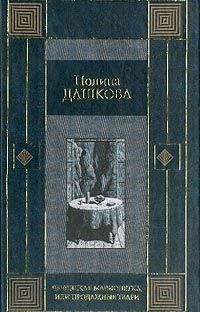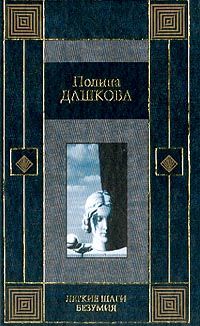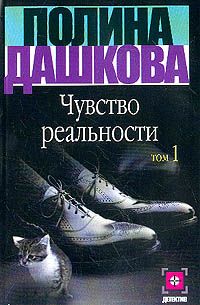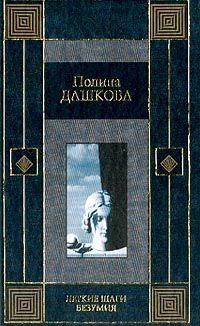— Я не думаю. Я знаю, — Рейч рубанул ребром ладони воздух. — Они продолжали экспериментировать на людях. Сначала это были уголовники, приговоренные к смертной казни. Потом проститутки и нелегальные эмигранты. Но все казалось мало. В ход пошли так называемые добровольцы, молодые офицеры, которым говорили, что это необходимо для великой цели защиты демократии и совсем не вредно для здоровья. Студенты, которым просто платили за это деньги и не считали нужным объяснить возможные последствия. Сотрудники, подозревавшиеся в предательстве, — чтобы развязывать им языки и не возиться долго. В общем, люди. Тысячи, десятки тысяч людей. А руководил всем этим наш с вами знакомый. Ну, угадайте, кто?
— Доктор Отто Штраус?
— Совершенно верно. Вы что-нибудь слушали о сверхсекретных программах, которые проводились в ЦРУ с конца сороковых под личным контролем Аллена Даллеса? Их кодовыми названиями были «Артишок» и «Блю-берд».
— Откуда вы знаете, что Отто Штраус после войны работал на ЦРУ? — спросил Григорьев.
— От него самого.
Григорьев закрыл глаза и почувствовал странную усталость. Голова кружилась, колени дрожали, словно он только что прошел пешком без остановки сотню километров или его долго крутили в центрифуге.
ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ
Следующим номером сегодняшней программы у Вовы Приза было ток-шоу. Оно шло в прямом эфире, ранним вечером, до новостей, и имело чрезвычайно высокий рейтинг. Обсуждалась родная для него тема: нужна ли России твердая рука? С ним вместе выступал старый вялый хрыч Женька Рязанцев, и было бы глупо упустить возможность лишний раз покрасоваться перед широкой аудиторией на таком выигрышном фоне. Хотя по большому счету именно сегодня ток-шоу совсем некстати. Во-первых, жарко. В такую жару студии в «Останкино» к вечеру раскаляются до температуры сауны. Течет грим, плавятся мозги. Но главное, сегодня надо окончательно решить вопрос с этой несчастной потеряшкой. Дело не в том, что она — свидетель. Какой она свидетель, если ничего не видела, не может говорить? Дело в перстне. Только она могла его подобрать. Больше никто.
Шаман почти не сомневался, что нашел бы его в песке на пляже, если бы он там лежал. Река — не море, волн нет.
Он бы лежал себе спокойно и ждал Шамана. Но его не оказалось. Значит, подобрала Василиса Грачева. Брать чужое нехорошо. А Лезвие до сих пор не звонит и отключил мобильник.
Журналистка со своей командой наконец выкатилась.
До поездки в «Останкино» осталось полтора часа. Следовало хоть немного отдохнуть, подремать, потом принять душ. Шама сильно потел, никакие дезодоранты не помогали. В жару приходилось мыться и менять белье три раза в сутки, особенно если предстояло публичное мероприятие. В комнате отдыха в «Останкино», перед ток-шоу, будет полно народу, и все знаменитости. Ее величество Тусовка вполне терпимо, и даже одобрительно, относится к невежеству, к наглости, хамству, к мату, к болезненной сексуальной озабоченности. Ты можешь себе позволить все.
Но у тебя при этом должны быть безупречные зубы, чистые уши и ногти, и ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах нельзя допустить, чтобы пахло от ног. А у Шамана пахло. Сам он запаха не чувствовал, но еще в институте пожилая преподавательница сценречи однажды прошептала ему, слегка поморщившись: «Володя, вы уж, ради Бога, простите меня, но вам надо чаще менять носки». Он дико возмутился, обиделся, возненавидел старуху и гадил ей по мелочи при всяком удобном случае. Но тем не менее стал чаще мыться и носки менял ежедневно. Спать не хотелось, несмотря на бессонную ночь. Слишком был возбужден и раздражен. Он с трудом переносил даже совсем короткие периоды бездействия и одиночества. Оставалось принять душ и перекусить. Но жаль смывать такой удачный грим, к тому же аппетит пропал совершенно. Так, ничего не делая, ни о чем не думая, бормоча под нос песню про лютики-цветочки, он просидел в кресле, положив ноги на журнальный стол, в тупом оцепенении, минут двадцать, пока не позвонили в домофон. На экране он увидел искаженную физиономию Лезвия и еще до всяких объяснений понял, что его ближайший друг и помощник упустил кисловскую потеряшку.
Он был в форме, красный, с опухшими блестящими глазами. От него пахло перегаром.
— Что я мог сделать, блин?! Там оказалась эта дура слабоумная, Лидуня. Помнишь ее? Ну вот. Она меня тоже помнит!
— Надо же, еще жива, — Шаман покачал головой. — Погоди, ты что, слабоумной испугался?
— Я не испугался, блин! Я растерялся, занервничал. Я же в Кисловке сто лет не бывал. А что бы ты делал на моем месте? Не стрелять же в нее, на хрен! Она орала на всю деревню, схватила кочергу.
— Ой, какой ужас.
— Ты зря смеешься, Шама. Она вполне могла меня покалечить, метила, сучка, прямо по башке. Как с цепи сорвалась.
— Сколько ты выпил, Лезвие?
— Грамм сто, не больше.
— До или после?
— То есть? — Лезвие заморгал.
— Ты пил по дороге в Кисловку, для храбрости, или на обратном пути, чтобы расслабиться?
— Слушай, Шама, я тебе что, пацан зеленый? Это мое дело, понял? — Лезвие попытался разозлиться, но не получилось. Он громко рыгнул, выругался, лицо его залилось бурой краской. — Ну, хлебнул малость, только что, у тебя в лифте, — он достал из кармана стальную плоскую фляжку и протянул Шаману: — Хочешь? Это коньяк.
Шаман ничего не ответил, продолжал смотреть на Лезвие, холодно и насмешливо.
— Нет, ну а что, в натуре, я мог сделать? — проворчал Лезвие. — К тому же, знаешь, чей это дом? Васьки Кузина!
— Его убили в Чечне семь лет назад, — мягко заметил Шаман.
— Ну и что? Фельдшерица, которая подобрала эту Грачеву Василису, она Васькина мать. Она меня тоже вспомнила, понимаешь ты или нет?
— Понимаю. Страшное дело. Тебя вспомнили две деревенские тетки, одна из которых слабоумная.
— Шама, ты хорошо живешь, в натуре, — Лезвие бросил фляжку на журнальный стол, плюхнулся в кресло, закурил. Руки его тряслись, но взгляд слегка прояснился. — Мы же ее изнасиловали тогда, эту Лидуню, помнишь? И чуть не убили. А Васька Кузин ее потом нашел в лесу, полумертвую, дотащил до медпункта, там его мать работала, и до сих пор работает.
— Ты что-то путаешь, Лезвие. Пить надо меньше. Юродивую Лидуню пятнадцать лет назад изнасиловали и чуть не убили какие-то подонки, у них лица были закрыты черными капроновыми чулками. Один чулок юродивая содрала и сжимала в кулаке. Следствие этот факт установило со слов потерпевшей, хотя она и была признана недееспособной. Их так и не нашли, этих мерзавцев. Теперь уже не найдут.
— Колготки, — пробормотал Лезвие, — это твоя была идея. Ты стащил две пары черных колготок у своей матери, мы их разрезали и надели на головы. Но с меня Лидуня эту дрянь содрала и видела мое лицо, и сказала об этом Ваське Кузину, пока он ее тащил. Ты что, не помнишь, как мы с ним дрались на кладбище?
— Ага. Он тебя хорошо тогда отлупил. Главное, подстерег тебя одного, когда нас рядом не было. Но ты молодец, молчал, как партизан. Ладно, хватит. У меня скоро прямой эфир. Что там с Грачевой? Давай быстро и по порядку.
— Ну, я вошел, короче. Хозяйки не было. Я сразу понял, это она. Назвал фамилию, имя отчество. Она закивала.
— Как она выглядит?
— Сопля, малолетка, глаза сумасшедшие. На вид лет четырнадцать. Патлы длинные, черные. Тощая, руки, ноги в бинтах.
— И что, правда не может говорить?
— Даже не мычит. Но все слышит. Я сразу спрашиваю: «Грачева Василиса Игоревна?» Кивает. Понимаешь, если бы не эта сучка слабоумная, я бы все быстренько сделал, как мы решили. Но на меня хрен знает что нашло. В общем, пока я там с ними валандался, явилась хозяйка, да не одна, вместе с участковым Поликарпычем. Ему, оказывается, телефонограмма пришла с ориентировкой на четырех подростков москвичей, вот он и допер, что потеряшку ищут. А Кузина уже «скорую» вызвала. Ну не мог же я их там всех четверых из автомата!
— Не мог, — кивнул Шаман, — конечно, не мог. Ты сказал им, как зовут девку?