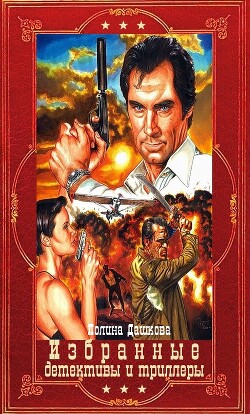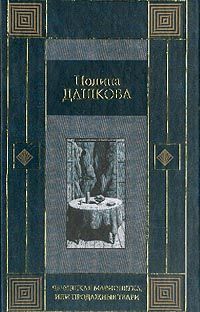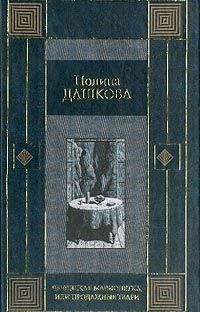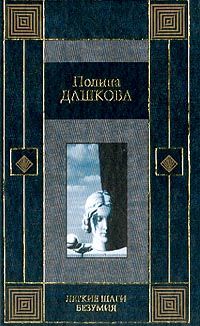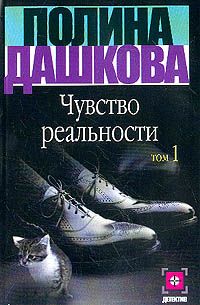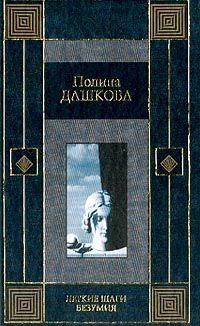— Нет. Я ж понимаю, она молчит из-за стресса. Она, в принципе, не глухонемая. Чем быстрей ее найдут родные, тем быстрей она заговорит. Вот пусть подольше ищут.
— Молодец. Умница. А Лидуня? Она ведь слышала, как ты произнес фамилию и имя. У нее, как выяснилось, хорошая память. Впрочем, ладно, тут ничего не поделаешь. Дальше.
— Ну, дальше стали ждать «скорую». Они в доме, я на улице, в машине.
— А что так? Выгнали? — Шаман удивленно поднял брови.
— Нет! Чаем напоили с вареньем! Там, главное, вся комната в Васькиных фотографиях. Пялится со стен, сволочь, как живой! К тому же хозяйка стала базлать: «Что б ноги твоей здесь не было, вон отсюда!» Стыдить меня стала, как сопливого пацана. А тут еще Поликарпыч… Он ведь меня отмазывал несколько раз, я вроде как ему обязан, и ссориться с ним мне не резон, блин. Они же застали меня с пушкой в руке, понимаешь?
— Понимаю, понимаю, только не ори. Ты хотя бы узнал, в какую ее повезли больницу?
— В Шестую городскую.
— Про перстень мой ты, конечно, ничего не выяснил? Прошмонать тебе ее не удалось, юродивая помешала, — Шаман по детской привычке всосал нижнюю губу и стал похож на кролика.
— А не надо было шмонать, — тихо и серьезно произнес Лезвие, — перстень у нее на пальце.
— Ты же сказал, руки забинтованы? — голос Шамы стал странно высоким, он сам не заметил, как начал ковырять ногтем маленькую выпуклую родинку под подбородком.
— Бинт размотался на правой руке. Я увидел перстень, на среднем пальце.
Родинку под подбородком Шаман расковырял до крови и не заметил этого. Душ так и не принял, носки не поменял.
* * *
— Андрей, вам нехорошо?
Григорьев открыл глаза, увидел Рейча и понял, что отключился на какое-то время. Как это произошло, почему и сколько продолжалось, неизвестно. Он сидел в удобном кожаном кресле, в подвале магазина Рейча. Тихо гудел кондиционер. Было холодно.
— Не пугайтесь, — улыбнулся Рейч, — здесь многие теряют сознание.
— Почему?
— В этом доме располагалось отделение гестапо. В подвале, вот именно здесь, где мы сейчас сидим, были камеры. Не могу сказать, что каждый день кого-то пытали, избивали, но случалось. Здесь стены пропитаны ужасом, болью, предательством. Если провести здесь ночь, можно услышать крики, стоны, очень тихие, далекие, но такие жалобные, что сердце разрывается. Собственно, сам подвал — тоже экспонат моей коллекции. Могу сварить кофе.
— Нет. Спасибо.
Григорьев взглянул на часы. Рейч перехватил его взгляд.
— Вы устали?
— Хочу понять, сколько времени был в отключке.
— Всего пару минут, не больше. Еще раз повторяю вам, ничего страшного. Наоборот, такая реакция говорит о том, что вы живой человек, не робот, не инопланетянин. Вот ваш соотечественник Владимир Приз чувствовал себя здесь великолепно, как дома.
— А вы? Как вы себя чувствуете здесь, Генрих? Вообще, зачем вам все это?
— У каждого свое хобби. Сейчас модно быть чудаком. Я с раннего детства чудак и фантазер. Знаете, когда мне было шесть лет, я решил, что Генрих Гиммлер мой отец. Я узнал, что у детей бывают отцы и матери. То есть не узнал, а осознал и стал думать — кто же меня произвел на свет. Простая детская логика. Генрихом меня назвали в честь Гиммлера. Значит, он мой отец. А на роль матери я выбрал легендарную летчицу, первую женщину-испытателя Люфтваффе Ганну Рейч. Мне дали ее фамилию. Это было принято — называть детей, таких, как я, в честь героев Рейха. Далее, я выдумывал разные легенды, почему они, мои родители, не могут признаться, что я их сын, и забрать меня. Я сочинял сказки и этим спасался в кошмарном быту инкубатора. Портрет Гиммлера висел в нашей спальне. Засыпая, я смотрел на него, разговаривал с ним, называл папой и рассказывал, как прошел день. У Гиммлера были слегка оттопыренные уши. У меня тоже. Портрет Ганны висел в комнате медсестер. Туда детей не пускали, но мне удавалось иногда проскользнуть незаметно, и я разговаривал с Ганной. У нее были светлые вьющиеся волосы. У меня тоже.
— Это кольцо принадлежало Ганне Рейч? — спросил Григорьев, кивнув на раскрытый бархатный футляр.
— Да. Удивительная была женщина. Красавица, умница, бесстрашная, благородная. Восемнадцатилетней девочкой летала в Африку, кормить и лечить туземцев. В двадцать установила абсолютный европейский рекорд высоты среди женщин-авиаторов и рекорд самого длительного беспосадочного полета. Была одним из лучших пилотов-инструкторов люфтваффе, экспертом по авиационным исследованиям, первой женщиной-испытателем. Она умерла здесь, во Франкфурте, в семьдесят девятом. Я познакомился с ней в семьдесят шестом. Когда я рассказал ей, почему ношу ее фамилию, она была растрогана до слез. Она до конца своих дней не желала ничего знать о концлагерях и прочих ужасах. Для нее Адольф Гитлер был человеком, который отдал жизнь за то, что Германия стала самой великой страной в мире, чтобы все немцы были богаты и счастливы. Мы с ней очень подружились. Я долго уговаривал ее продать мне это колечко и денег не пожалел. Ганне надела его на палец Магда Геббельс двадцать седьмого апреля сорок пятого года. Ганне удалось выбраться живой из подвала рейхсканцелярии Гитлера. Потом она давала очень трогательные свидетельские показания о последних часах жизни фюрера и других обитателей бункера. Она была искренне предана фюреру и национал-социализму. Вместе с генералом фон Греймом она, рискуя жизнью, под шквальным огнем русских, прилетела в Берлин из Мюнхена, чтобы спасти своего фюрера или погибнуть вместе с ним.
— Простите, но это не совсем точно, — перебил Григорьев.
— Что? — Рейч открыл рот от удивления. — Что вы сказали?
— Генрих, я неплохо знаю военную историю. В конце апреля сорок пятого фон Грейм был вызван в Берлин срочной телеграммой Гитлера. Он взял с собой самого надежного своего пилота, Ганну Рейч. Когда они прилетели, Гитлер официально сообщил, что Геринг стал изменником, и назначил фон Грейма главнокомандующим люфтваффе. Так что ваша прекрасная Ганна летела не спасать и погибать, а просто сопровождала своего командира и выполняла приказ. Впрочем, это ничуть не умаляет благородства ее поступка.
Рейч смотрел на него несколько секунд молча, склонив голову набок, и вдруг спросил, очень быстро и тихо:
— А вы? Чей приказ выполняете вы, Андрей?
Глаза его впились в лицо Григорьева. Никакой марихуаны, никакого безумия. Рейч был спокоен, подтянут и очень наблюдателен. Григорьев чувствовал, что даже легкое движение его лицевых мышц не ускользнет от взгляда Генриха.
«Мы никогда не обсуждали с ним мою биографию и профессию. Он знает, что я русский эмигрант во втором поколении, родился в Нью-Йорке. Зарабатываю на жизнь чтением лекций в нескольких университетах. Специализируюсь на истории дипломатии и тайных обществ. Я выдал ему эту легенду много лет назад, и с тех пор он не задавал вопросов. Я ему, впрочем, тоже. Я довольствовался его легендой: журналист, фотограф, художник, историк-любитель, коллекционер. Мы говорили об искусстве, старом и современном, о масонстве, алхимии, о розенкрейцерах и тамплиерах. У меня не было необходимости задавать ему бестактные вопросы, поскольку я и так знал о нем очень много. А он? Что знает обо мне он? Я никогда не пытался его вербовать и делать своим агентом. Иногда я осторожно цедил через него информацию, иногда покупал за большие деньги. Он не спрашивал, для кого и зачем. Я верил, что ему это безразлично, что его интересуют только деньги» — все это пронеслось у Григорьева в голове за одно мгновение.
— Ладно, расслабьтесь, Андрей, — Рейч махнул рукой, — можете не отвечать. Я задал хамский вопрос, простите. На самом деле я вам очень благодарен. Вы меня так долго, так терпеливо слушали. Спасибо. — Рейч слегка поклонился. — Было бы обидно, если бы все это ушло вместе со мной. Мемуаров я писать не собираюсь. Сам не умею, нанимать кого-то и диктовать не хочу. Ни друзей, ни родственников у меня нет. Я пытался рассказать Рики. Он был в восторге. «О, это здорово! Это так концептуально! Ты был выведен искусственным путем, ты прообраз клона! Ты клон „Черного ордена“! Ты осколок космического льда! Я сплю с клоном!»