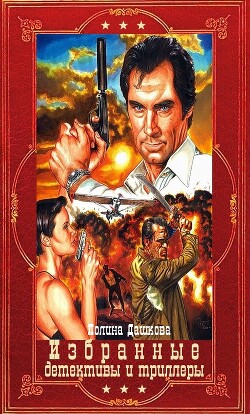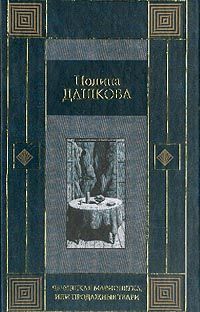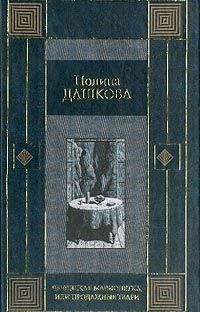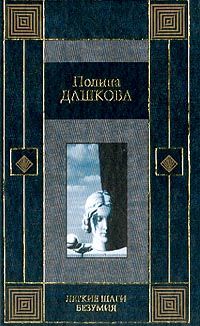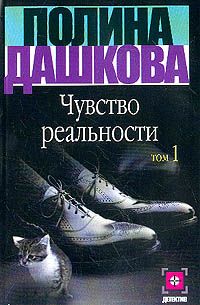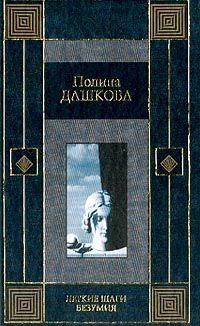— Вы уезжаете завтра? — откашлявшись, спросил Григорьев.
— Послезавтра. Не волнуйтесь, Андрей. У нас еще куча времени. Я вам позвоню.
ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ
— Маша, я не понимаю, почему вы так интересуетесь этим актеришкой? — спросил Рязанцев с некоторой обидой. — Да, в него вкладывают хорошие деньги, его серьезно пиарят. Но сам по себе Вова Приз марионетка, ничтожество.
— Про Гитлера тоже так говорили, — проворчала Маша, тормозя у светофора.
— Про кого? — Рязанцев засмеялся.
Ей понравился его смех, искренний и вполне здоровый. Перед ток-шоу это было совсем неплохо.
Они ехали в «Останкино» на Машином черно-сером «Форде». Никакой охраны, никаких шоферов. Рязанцеву не пришлось долго уговаривать Машу сопровождать его. В каком качестве — неважно. Режиссер программы, когда узнал, что Евгений Николаевич приедет с американской журналисткой, очень воодушевился. В последнее время стало модно приглашать на ток-шоу разных иностранцев. Это поднимало передачу на международный уровень. Режиссер спросил, нужен ли переводчик, и был явно разочарован, когда узнал, что госпожа Мери Григ говорит по-русски почти без акцента.
— Гитлера даже после тридцать третьего года многие считали шутом, марионеткой, — напомнила Маша, трогаясь с места.
— Нет, вы это серьезно? — Рязанцев в очередной раз потянулся за сигаретой. — Вы искренне верите, что в сегодняшней России мальчишка, ничтожество Вова Приз может увлечь за собой миллионы? Я имею в виду людей, конечно. Людей, а не деньги.
— Да, я поняла, что вы говорите о людях, потому, что деньги в него уже вбиваются. Но мне не нравится слово «увлечь». Я бы сказала, заразить. Заразить бешенством. Боюсь, это уже происходит.
— Нет, Машенька, вы совсем запутались и меня запутали. Сегодня Приз состоит в моей партии, а она демократическая. О каком бешенстве вы говорите?
В салоне работал кондиционер, окна были закрыты. Маше надоело просить его не курить, он постоянно забывал, что она не выносит табачного дыма. На этот раз она решила схитрить, после светофора свернула к заправочной станции и с некоторым злорадством сказала:
— Вы лучше не закуривайте, Евгений Николаевич. Мне надо заправиться.
На станции, в ларьке рядом с кассой Маша купила бутылку воды без газа для себя и пакет ржаных сухариков для Рязанцева. Она знала, что он не удержится, начнет грызть, и остаток пути до «Останкино» ей не придется дышать табачным дымом.
— Маша, я не понял. Вы все-таки шутите или нет? Вы действительно считаете, что Вова Приз тянет на фюрера всея Руси? — спросил Рязанцев, когда она вернулась в машину. — Но это же полный бред! Сегодня в России фашизм невозможен. Тем более он не может зародиться внутри партии, идеология которой в принципе исключает любые проявления нацизма и насилия.
— Ох, Евгений Николаевич, идеология — штука эфемерная, она меняется легко и незаметно. Сегодня в России возможен пиар такого масштаба, такой чудовищной наглости, что он вполне может конкурировать с агитацией и пропагандой Третьего рейха. И, между прочим, среди пиарщиков немало людей, которые, как Геббельс, при слове «культура» готовы схватиться за пистолет.
— Пиар. Да, это, конечно, серьезно. Но не настолько. Всегда можно выключить телевизор и выкинуть газету. Никто тебя не отправит за это в лагерь. Все-таки лучше, когда уговаривают купить жвачку или проголосовать за вора, чем когда тебя строят в шеренгу и заставляют кричать «Ура!», «Хайль!», «Да здравствует!». Как сказал поэт Бродский, «но ворюги мне милей, чем кровопийцы». А мозги промывали и будут промывать, в разных социальных системах, разными средствами. Тут ничего не поделаешь. Скорее у вас в Америке зреет диктатура. Вы же там все свихнулись после одиннадцатого сентября. — Рязанцев зашуршал пакетом и принялся за сухарики. — Сегодня шансов взрастить своего фюрера у вас значительно больше, чем у нас. Европа и Россия пережили столько всяких кошмаров, а у вас — что? Война Севера с Югом, великая депрессия тридцатых, Вьетнам? Ну да, кошмар одиннадцатого сентября. Однако это произошло слишком недавно и быстро. У вас нет опыта настоящего страдания, унижения, хаоса.
— И вам это обидно, да? — ухмыльнулась Маша.
— Дело не во мне. Лично я люблю Америку и желаю ей только добра. Дело в исторической справедливости. Мы свое отстрадали. Иван Грозный, Ленин, Сталин. Мы диктатурой переболели, у нас надежный иммунитет. Коррупция, разгильдяйство, воровство. Это да, это про нас. Но в шеренги Россию сегодня уже никто не построит.
— Жалко, я за рулем. Я бы вам поаплодировала с удовольствием. Вы сможете повторить это на бис на ток-шоу?
— Так вдохновенно — нет. Там душно, слишком много народу, и никто никого не слушает. К тому же вы накормили меня сухарями, а они черт знает на каком масле жарились. Изжога мне обеспечена.
— А не ели бы.
— А вкусно. Я грызун. Ужасно люблю всякую гадость в пакетиках — арахис, чипсы, сухарики. Невозможно во всем себе отказывать. С вами я вообще расслабился. Знаете, я только сейчас понял, как плохо действует на меня Егорыч с его мрачностью. И ведь вся служба безопасности такая. Вот вез бы меня кто-нибудь из полковничьей команды, я бы молча подыхал по дороге и на ток-шоу приехал бы покойником.
— Подыхали от чего? — спросила Маша, уже выискивая место для парковки.
— От тоски, Машенька.
Места не было, пришлось объехать вокруг главного здания телецентра. Маша воспользовалась этим, чтобы вернуться к главной для нее теме.
— Да, мы остановились на том, что Приза кто-то серьезно пиарит. Вы знаете, кто именно? — спросила она вполне равнодушно.
— Мне странно, что вы этого не знаете. Вовой Призом занимается главный политтехнолог страны, личность легендарная, господин Гапон.
— Кто?
Рязанцев опять засмеялся.
— Нет, не тот поп-провокатор, и не его потомок. Эта кличка появилась от инициалов: «Г.П.». Теперь поняли, о ком речь?
— Ах, да, конечно, — Маша тут же догадалась, о ком речь. Собственно, она и без Рязанцева знала, кто пиарит Приза, просто хотела выяснить, насколько Евгений Николаевич осведомлен и насколько озабочен этим. Однако кличку «Гапон» услышала впервые.
— Поп-провокатор — это отлично. Сразу приходит в голову, что «поп» — не в смысле «священник», а поп-звезда. А кто финансирует?
— Маша, вы профессионал, задаете такие детские вопросы, — поморщился Рязанцев. — Когда Гапон кого-то раскручивает, источник финансирования остается неизвестным. Он потому и жив до сих пор, и здравствует, что свято чтит анонимность своих заказчиков.
Место, наконец, нашлось. Прежде чем выйти из машины, Рязанцев долго, тщательно вытирал руки влажной салфеткой, подогнув коленки, причесывался перед наружным зеркалом, наконец спросил у Маши шепотом:
— Как я выгляжу?
И получил необходимую порцию бодрящих комплиментов.
«Господи, как же ему мало надо, — с жалостью подумала Маша, — чтобы кто-то был рядом, слушал, говорю иногда что-нибудь приятное».
В главном подъезде их встретила маленькая нервна: девушка, тут же, у поста охраны, передала длинному флегматичному юноше, который молча повел их дальше, к лестницам.
Маша никогда прежде не бывала в «Останкино» и любопытством озиралась по сторонам. Фойе напоминало зал ожидания какого-нибудь небольшого аэропорт или вокзала. Мимо сновали люди, похожие на транзитных пассажиров. Лица тревожные, озабоченные, усталые или болезненно надменные, как бывает, когда ждет кого-то слишком долго и напрасно и стараешься делать вид, что тебе все на свете безразлично.
На лестнице их чуть не сшибла группа девушек. Он были накрашены, наряжены, глаза их лихорадочно сверкали.
— Ты что, дура? Его надо там, внизу ловить! — выкрикнула полная стриженая брюнетка.
— Пленку, пленку не забыла? А то получится, как в тот раз! — отозвалась другая и, резко повернув голову, хлестнула Рязанцева по лицу своими длинными малиновыми волосами.
Снизу послышалось восторженное: «Bay!»