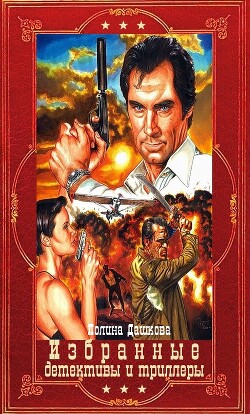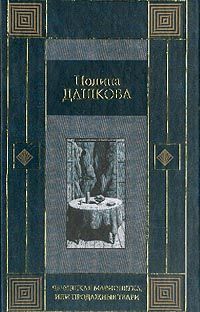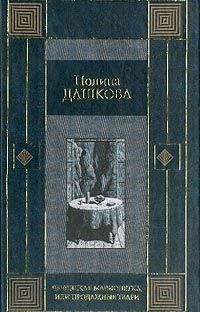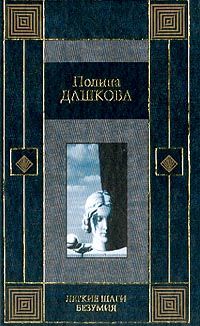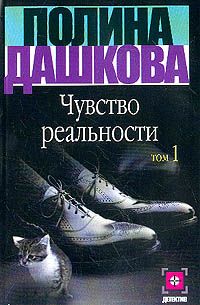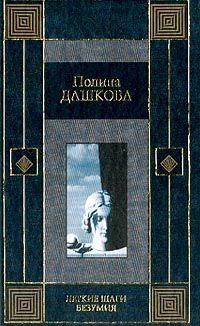— Все, мне надо идти. Я отдежурила сутки. Прошу вас освободить помещение, — жестко заявила Агапова.
— Никуда я отсюда не уйду! — заявил Дмитриев и не придумал ничего лучшего, как усесться на койку, рядом с Василисой.
— В таком случае мне придется вызвать охрану.
Василиса между тем обняла деда забинтованными руками, всем своим видом показывая, как ей не хочется, чтобы он уходил. Агапову это явно смутило. Она старалась не смотреть в их сторону. Ей, конечно, было неловко, но остановиться, уступить или хотя бы смягчить тон она уже не могла.
— Вера Ивановна, можно вас на минуту? — сказала Маша.
Они вышли в коридор. Маша прикрыла дверь палаты.
— Спасибо вам огромное, вы так помогли Василисе, мы вам очень, очень благодарны.
Маша открыла сумочку, достала купюру в пятьдесят долларов, протянула врачу, успев подумать: «Елки-палки, да что же я делаю? Такая строгая, серьезная дама, заведующая отделением, опытный врач, сейчас возмутится, пошлет меня ко всем чертям, и будет права».
Агапова молча взяла у нее деньги, спрятала в карман халата и, не глядя на Машу, сказала:
— Пусть ваш режиссер пишет расписку, и можете забирать девочку. Менять повязки и обрабатывать ожоги надо не реже двух раз в сутки. Никаких жирных мазей. Ладно, я вам все напишу. И еще, ее обязательно надо показать лору и подростковому психиатру. Психиатру, а не психологу, понимаете?
Пока шли к машине, Маше позвонил отец, у него был веселый, возбужденный голос,
— Представляешь, я в Ницце! Вот только что вышел из самолета.
— Отлично, папа. Я очень за тебя рада, — было неудобно разговаривать, она шла очень медленно, поддерживала Василису, и нужны были обе руки.
— Скажи, ты видела этого твоего актеришку?
— Да.
— Ты случайно не обратила внимания, носит он какие-нибудь украшения?
— Что? Прости, одну минуту.
Дмитриев споткнулся, чуть не упал. Маше пришлось ловить его, при этом не отпуская Василису.
— Ты не можешь говорить? — тревожно спросил отец.
— Мне не очень удобно сейчас. Почему ты спросил про украшения?
— Неважно. Просто попробуй вспомнить, есть у него перстень на мизинце?
— Нет, — уверенно ответила Маша.
— Точно?
— Во всяком случае, я не видела.
— Может, ты просто не обратила внимания?
— Нет, папа, я обратила внимание. Ты знаешь, я всегда смотрю на руки. Никаких украшений, только часы. Платиновый «Роллекс». Ты можешь объяснить, почему тебя это вдруг заинтересовало?
— Обязательно. Но не по телефону. В следующий раз, когда увидишь его, опять обрати внимание на руки, ладно? Мне важно знать, носит он перстень или нет.
— Какой-то конкретный? Как он выглядит?
— Да. Платиновый, мужской, без камня. Тридцатые годы двадцатого века, — быстро говорил в трубку отец, — на печатке профиль Генриха Птицелова.
Но Маша его уже не слушала. Она испуганно смотрела на Василису и пыталась понять, что с ней вдруг случилось. Девочка странно обмякла, совсем не держалась на ногах.
— Я тебе позже перезвоню, я сейчас не могу, — сказала Маша и нажала отбой.
Вместе с Дмитриевым они усадили Василису на заднее сидение.
— Тебе нехорошо? — спросила Маша. — Может, стоит вернуться в больницу?
Девочка отрицательно помотала головой, откинулась на спинку, закрыла глаза.
— Нет, Маша, нет, зачем опять в больницу? — Дмитриев замахал руками. — Мы с таким трудом ее забрали! Она просто хочет спать. Она слабенькая. Дома ей будет лучше, в любом случае.
— Ладно, — вздохнула Маша, — домой, так домой.
* * *
Отто Штраус знал смерть так хорошо, так близко, что ему казалось — с ней вполне можно договориться. Кроме опытов с холодом, жидким и сухим, были опыты с высоким и низким давлением, с голодом, со стерилизацией. Штраус хотел жить вечно. Каждый свой эксперимент он рассматривал как маленький шаг в сторону вечности.
Он наблюдал, как умирают люди. Тысячи людей, все вместе и в одиночку, насильственно и добровольно. Он наблюдал, как постепенно, неуклонно меняется один из главных и простейших законов существования жизни. Любой многоклеточный организм, в том числе человек, обязан умирать, расплачиваясь за потребность размножаться. Люди умирают потому, что совокупляются и рождают новых людей. Средневековые алхимики пытались решить проблему бессмертия изнутри, искали философский камень, эликсир жизни, выдумывали дикие смеси, в состав которых входила, например, сушеная жаба, прожившая десять тысяч лет. Ее следовало отыскать, высушить, истолочь в порошок. Правда, как определить, сколько она прожила, не объяснялось.
В древнеперсидском манускрипте имелся замечательный рецепт. Следовало взять ребенка, непременно рыжего, с большим количеством ярких веснушек, кормить его только фруктами до тридцати лет. Затем опустить в каменный сосуд с медом и травами, герметично закупорить. Через сто двадцать лет тело должно обратиться в мумию. Вот тогда сосуд надо открыть, мумию вытащить, отщипывать по кусочку размером с вишню и принимать три раза в день натощак, запивая родниковой водой. Гарантируется продление жизни лет на двести.
Гейни вычитал это в одном из старинных лечебников и стал приглядываться к новым партиям заключенных, искал рыжего ребенка. Штраусу удалось убедить своего наивного друга, что рецепт из персидского манускрипта — ерунда, сказка.
Проблема бессмертия, или хотя бы продления жизни, интересовала многих. Но никому не приходило в голову что невозможно изменить биомеханику человека, не изменив ничего в законах биосферы. Изобретать и пить эликсиры — примерно то же, что пытаться воздействовать на ход времени, остановив свои наручные часы. Миллионы других часов все равно будут отсчитывать минуту за минутой. Время не изменит свой ход, даже если остановятся все часы в мире. Единственный вариант — вынырнуть во вневременной мир.
Отто Штраус чувствовал, что шансы его личного бессмертия увеличивались соразмерно тому, как расчищалось жизненное пространство вокруг него. Известно, что после войн, катастроф, эпидемий, после гибели большого количества людей природа пытается восстановить равновесие. Рождаемость резко повышается. А если нет? ЕСЛИ огромное пространство земли заранее очищено от особей женского и мужского пола детородного возраста, а те немногие, которым сохранена жизнь, стерилизованы? Что будет с ныне живущими, если новые не родятся? Природа не терпит пустот. Она попытается сберечь ту высшую форму жизни, которая останется на земле, и таким образом из врага станет союзником.
Штраус разрабатывал способы стерилизации, незаметные и безболезненные. Не надо скальпеля. Достаточно совсем небольшого количества направленных на нижнюю часть брюшной полости рентгеновских лучей, чтобы мужчины и женщины лишились своих детородных способностей. Тысячи заключенных проходили эту процедуру, не догадываясь, что происходит, не испытывая никаких неприятных ощущений. В дальнейшем планировалось использовать этот способ не только в лагерях, но и на всех оккупированных территориях. Каждый житель обязан явиться для регистрации в районную управу. Там его приглашают в отдельную, специально оборудованную кабину, чтобы он просто заполнил анкету. Он стоит за конторкой. Внизу, на уровне живота, есть отверстие, за которым спрятана рентгеновская установка. За эти разработки Отто Штраус получил личную благодарность фюрера.
Иногда в его голове всплывали обрывки курса философии, который он прослушал в Мюнхенском университете. Глядя сквозь стекло барокамеры, как бьется в последних судорогах очередная жертва экспериментов с повышением и понижением атмосферного давления, он цитировал про себя Эпикура: «смерть не имеет к нам никакого отношения. Пока мы существуем, смерти еще нет, а когда есть смерть, уже нет нас». И тут же возражал: вот оно, свидание жизни и смерти. Я могу продлить его до нескольких часов.
Вводя пациенту последнюю, смертельную дозу препарата собственного изобретения, который резко повышает свертываемость крови, глядя в глаза пациента, все еще полные горячей надеждой уцелеть, он мысленно цитировал Шопенгауэра. «Мир, основанный на стихийной, неведомо откуда взявшейся воле к жизни, не достоин самого себя, ибо раздроблен на множество маленьких воль, каждая из которых претендует на самообожествление. Так не честнее ли признаться в том, что наш мир не наилучший, а наихудший из всех возможных?»