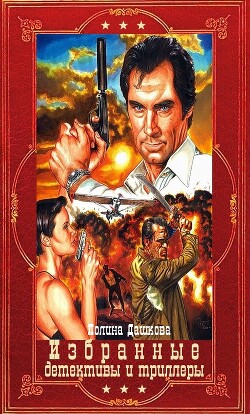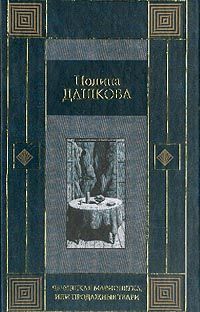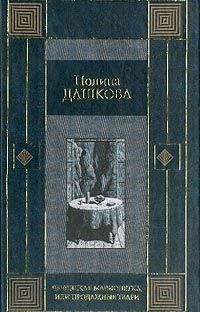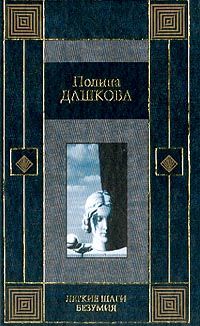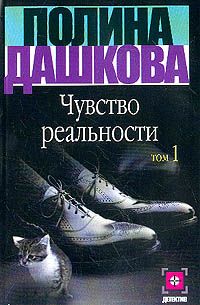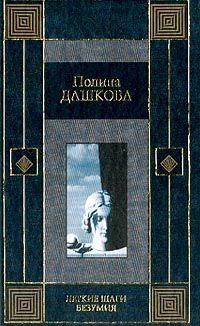Визг и вой эстрады, мрачное кокетство политических комментаторов. Треп ночных ток-шоу. Скажите, вы сильный человек? Ну, не знаю, в чем-то да, в чем-то нет. Скажите, а зачем вы вообще живете? Как к вам и к вашей работе относятся ваши близкие? Кто вам нравится из писателей? А из политиков?
Всего на минуту Приз застрял на культурном ток-шоу. Двое ведущих допрашивали модного художника. Он шмыгал носом и шевелил ртом так, будто что-то застряло между зубами. Ведущие без конца трогали себя, волосы поправляли, таращили глаза. Приз понесся дальше, сквозь колготки, прокладки, йогурты, страсти сериалов, шутки юмористов, сквозь дрожащий туман старого кино, сквозь назойливые тени и шорохи чужого бытия. Он стал нажимать кнопки с дикой скоростью. В глазах рябило, в ушах звенело. Ну ладно, пусть резвятся, болтают, поют, пляшут, совокупляются. Он все равно среди них, незримо и неотлучно. На сегодня он главная их фишка.
— Вы поняли, тупые животные? Я ваш брэнд! Я ваша фишка! Я ваше будущее! Я! Никуда вы от меня не денетесь! — пробормотал Приз и так шарахнул кулаком по подлокотнику, что стало больно. Очень больно. До слез.
Черная тоска душила его. Он тосковал по своему колечку.
Год назад, во Франкфурте, в маленькой подвальной комнате без окон, где хранил самые ценные экспонаты своей коллекции Генрих Рейч, Вова Приз только потрогал колечко, только на ладонь положил — и сразу понял: это его вещь. Он даже не стал торговаться, когда старый жадина загнул несусветную цену за перстень Отто Штрауса.
— Смотри, — говорил Рейч, — вот мундштук Кальтенбруннера, пенсне Гиммлера, вот кукла младшей дочери Геббельса, трехлетней Гайди, с которой она не расставалась до смерти. Малютку отравила собственная мать. Потрясающая женщина. Очень красивая худенькая блондинка. Тебе такие должны нравиться. Во всяком случае, Гитлеру Магда Геббельс очень нравилась. В Третьем рейхе вообще были удивительные дамы. Вот кожаная сумочка незабвенной фрау Керрль, супруги доктора Керрля, верного помощника Отто Штрауса в его научных изысканиях в Дахау и Освенциме. Единственный, уникальный экземпляр, ручная работа, пряжка из чистого золота. Как ты думаешь, дружок, чья эта кожа? Да уж, конечно, не телячья! Вероятно, детская, девичья. Потрогай, чувствуешь, какая она мягкая, нежная? Фрау Керрль — дама с высокими эстетическими запросами.
Женственный красавчик Рики был рядом, примерял мундир и фуражку с черепом, вертелся перед зеркалом,
Косился на Приза, губки облизывал, ресницами трепетал.
Рейч так увлекся, что ничего не замечал. Рики подмигивал Призу, корчил рожи и беззвучно потешался над Рейчем. Дело было вовсе не в кокетстве, не в любовной игре. Игра велась совсем другая. Глупый старый Генрих о ней не догадывался. Он показывал свою коллекцию и получал от этого огромное удовольствие.
Он открыл очередной футляр, потертый кожаный. Там, на вишневом бархате, лежала авторучка, слегка потрескавшаяся, но необычайной красоты, инкрустированная золотом и черным перламутром.
— Вот ручка Гейдриха. Этим золотым пером он подписывал в 1941 году директивы по тотальному уничтожению населения восточных территорий. Кстати, он никогда не использовал слова «уничтожение». Предпочитал употреблять другие термины: «фильтрование», «меры по оздоровлению». А вот осколок, извлеченный из селезенки Гейдриха, после того как на него было совершено покушение под Прагой, 27 мая 1942 года. Тебе интересно, дружок? — ласково спросил Рейч. — По глазам вижу, что да! А скажи, почему ты выбрал именно перстень Штрауса? Ты что-то знаешь о докторе? Читал? Слышал?
Когда Рейч задал вопрос, перстень уже был надет на левый мизинец.
— Он мне нравится, — сказал Приз, не утруждая себя другими объяснениями
— Доктор или его перстень? — с лукавой улыбкой уточнил Рейч.
— Они оба.
— Но доктор не был самой значительной фигурой в Рейхе. Смотри, у меня есть коробочка, в ней три зубочистки фюрера.
— Я хочу перстень.
Рики кивнул и восхищенно прикрыл глаза, показывая, что одобряет такой выбор. Рейч замер, замолчал, глядя на перстень, надетый на мизинец Приза. Потом поднял глаза и минуту смотрел на Приза, не моргая.
— О'кей. Шестьдесят тысяч евро. Поверь, дружок, на любом аукционе это стоило бы дороже. Правда, такие штучки не выставляются на торги.
Тяжелая, бронированная дверь хранилища захлопнулась. С тех пор Приз не расставался с перстнем, снимал его, только когда купался. Он полюбил этот кусок старой платины, как любят в детстве игрушечных мишек, как любят украшения, доставшиеся от прабабушек. Без перстня он чувствовал себя раздетым и беззащитным и сейчас не понимал, как жил без него раньше.
Без перстня все его детские комплексы, его истерики, его страх и жалость к себе возвращались, постепенно, с каждым вдохом. Оставшись без перстня, он как будто стал дышать другим воздухом, вредным и разрушительным для всего его организма. У него таяли силы, ломались ногти, на спине вскочило несколько крупных фурункулов. На расческе оставалось слишком много волос. Перестал работать желудок. Болел и плохо гнулся мизинец левой руки. Он сидел в полумраке, ждал журналистку, с бешеной скоростью переключал телеканалы, не замечая, что бормочет, напевает песенку про лютики-цветочки.
На одном из каналов мелькнули черно-белые, дрожащие кадры кинохроники. Приз остановился, не стал переключать дальше. Передним был Адольф Гитлер, живой, нестарый, энергичный. Вот он принимает парад, вот тянутся к нему сотни рук, сотни лиц, искаженных сладкой судорогой массового восторга. Слезы. Громовой крик приветствия.
За кадром звучал сдавленный, нарочито спокойный голос комментатора.
— Гитлер говорил такие глупости, такие банальности, что казался не то что ненормальным — нереальным, почти привидением.
— Правильно, — кивнул Приз, вступая в диалог с экраном, — он и был нереальным, был, есть, будет. Совершенно неважно, что он говорил. Люди-лютики слов не слышат.
Кадр в очередной раз сменился. Теперь показывали бараки, ходячие скелеты в полосатых пижамах, их лица, их глаза, груды женских волос, детских горшков, игрушек и обуви. Группа офицеров в белых халатах не спеша проходила сквозь строй заключенных. Среди них мелькнула длинная фигура доктора Штрауса. Потом был показан обед в доме коменданта лагеря. Голос за кадром нервно комментировал меню. Приз не слушал. Он впился в экран. Там тянулась к блюду с овощами худая гибкая рука. На пальце тускло сверкнул платиновый перстень.
Зазвонил домофон. Приз отправился открывать журналистке, громко и хрипло напевая песенку про лютики.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ
По заказу Кумарина русский скрипач в ресторане играл романс «Утро туманное». Всеволод Сергеевич застыл с трезубой вилкой над блюдом, на котором дымилась в кристаллической солевой корке крупная морская дорада. Он закрыл глаза. Губы его слегка трепетали, он неслышно напевал слова романса и помахивал рыбной вилкой в такт музыке. Скрипач стоял прямо над ними, едва не задевая быстрым локтем плечо Григорьева.
— Почему вы все время молчите? — спросил Кумарин, когда скрипач закончил, получил щедрое вознаграждение и отошел к другому столику.
— Я ем суп, — сказал Григорьев, — суп «Маринэ каприз» из морских гадов. О чем тут можно говорить?
— О том, как вам вкусно.
— Мне очень вкусно.
— Вы позвонили дочери, рассказали ей, что ее любимый Вова Приз купил перстень Отто Штрауса?
— Зачем?
— Ну-у, ей это было бы приятно услышать. Это в определенном смысле подтверждает ее смешную теорию о новом русском фюрере.
— Ничего это не подтверждает, — Григорьев сердито помотал головой, — из того, что Вова Приз купил перстень, который принадлежал ублюдку, палачу Отто Штраусу, вовсе не следует, что над Россией нависла угроза нацистской диктатуры. Из того, что Приз сумасшедший, вовсе не следует, что у него есть шансы прийти к власти.
Кумарин засмеялся, так громко, что на них стали оглядываться.