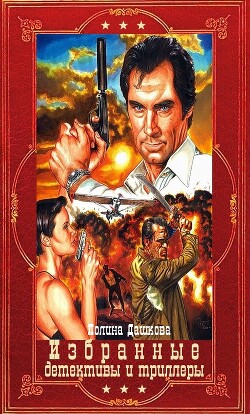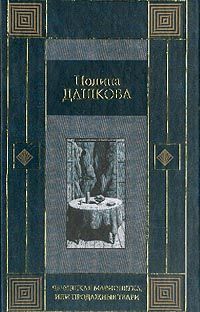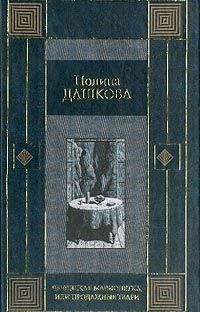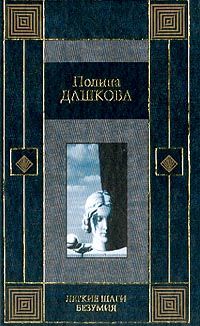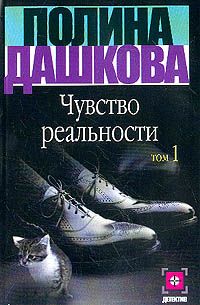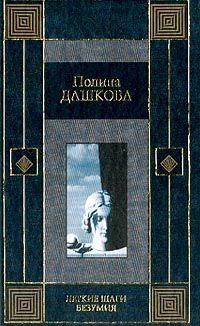— Простите, Евгений Николаевич. Я не могу.
— Маша, что происходит? Вчера вы уехали с прямого эфира. Причина была вполне уважительная. Но внучка Дмитриева теперь, как я понимаю, дома, с ней все в порядке, и вы могли бы вернуться к своим прямым обязанностям.
Сеть пропадала, было плохо слышно. Он кричал и стал самому себе противен.
«Что я могу сделать? Пожаловаться на нее Билли Макмерфи? Но Билли временно отстранен от должности, возможно, он вообще не вернется, уйдет на пенсию. Позвонить Хогану? Спросить, что происходит? Почему Мери Григ, вместо того чтобы заниматься предвыборной кампанией и моей бесценной персоной, быть постоянно рядом, держать руку на моем пульсе, мотается черт знает где? А может, так и было задумано? Может, ее прислали вообще не для меня, и сейчас у нее совсем другое задание?
Просто от меня это скрывают. Ну конечно! Макмерфи уходит в отставку. Хитрый Хоган станет сотрудничать и дружить с новым руководством. А новому руководству я на фиг не нужен. Для них я чужой, отработанный материал, к тому же старый, о, Господи, старый и некрасивый!»
— Маша! — крикнул он в трубку. — Маша, бросайте все, сейчас же приезжайте! Вы слышите?
В ответ раздался отвратительный металлический треск, от которого зачесалось внутри уха. Связь окончательно пропала. Механический голос вежливо попросил перезвонить позже.
Не обращая внимания на жену, он улегся на коврик и принялся очень медленно поднимать ноги под прямым углом, поднимать и опускать. Двадцать таких упражнений каждое утро занимали всего пять минут и должны были избавить от дряблого живота. Чем медленней поднимаются и опускаются ноги, тем крепче брюшные мышцы. Но это больно, особенно после долгого перерыва. На десятом упражнении он не выдержал и застонал, повалился на бок.
— Что с тобой, Женечка?
Галина обошла кровать, присела рядом с ним на корточки, помогла подняться.
— Ничего, — он встал, опираясь на ее руку, — мышцы свело. Почему ты спросила о Мери Григ? Зачем она тебе?
— Я думала, она приедет к завтраку. Мне хотелось с ней повидаться.
— А ей с тобой — нет! — рявкнул Рязанцев и отправился в душ.
Нервная дрожь все не проходила.
«Чего же ты хочешь, идиот? Ты думал, это будет вечно продолжаться? Все, старичок, пора и честь знать. Пора тебе в отставку, на свалку. Надо уступать место молодым. Ты никому не нужен. Тебя никто не любит».
Его качнуло в душевой кабинке, он ухватился за мыльницу, державшуюся на липучках, мыльница отлетела, он поскользнулся на куске мыла, упал, больно стукнулся плечом и коленом. От обиды чуть не плакал. Дрожали руки. Вылезал из кабинки, чувствуя себя дряхлой развалиной, опасаясь опять свалиться. Бреясь, сильно порезался сразу в нескольких местах. Ранки вспухли, кровь запеклась вишневыми корочками. Смотреть на себя стало совсем противно. Когда он вышел из ванной, Галина все, еще была в спальне. Она успела застелить его постель, развесить одежду, которая с вечера валялась в кресле.
— Маша звонила, — сказала она, — просила передать, появится только во второй половине дня. И не обижайся на нее, пожалуйста. У человека могут быть какие-то свои дела. Нельзя все делить и умножать на самого себя. Что у тебя там так грохотало? Ты упал? Ты опять порезался? Женечка, ну за что ты себя так не любишь? Брейся электробритвой, особенно когда ты в таком нервозном состоянии. Да, Егорыч ждет в столовой, весь из себя тихий и виноватый. Он сегодня ходил со мной на службу, хотел исповедаться, причаститься, но мобильник свой не отключил. Ему позвонили, он вышел из храма, да так и не вернулся.
Галина удивительно много разговаривала. Она даже как будто оттаяла. Она говорила нормальным голосом, не шептала, не бормотала, не делала многозначительных пауз, не отводила взгляд. Она смотрела на него открыто и ласково, говорила о вещах вполне обыденных и понятных. Она даже улыбнулась ему пару раз, и в лице ее мелькнуло что-то прежнее, живое, женственное. Или просто он сам вдруг захотел увидеть ее такой? А какая она, правда, какая она стала? Последние два года он смотрел на нее и ничего не видел, кроме собственной смертельной усталости.
— Ты не могла бы снять платок? — внезапно попросил Рязанцев.
— Пожалуйста.
Она развязала узел, опустилась на стул перед туалетным столиком, тряхнула короткими волосами.
— Галя, почему ты носишь эту пакость, не снимая, даже дома?
— Ты бы попросил, я сняла. Я думала, тебе все равно.
Рязанцев обнаружил, что голова его жены успела стать совершенно седой. Это странно, больно тронуло его. Лицо без старушечьей рамки, темного платочка в крапинку, выглядело совсем молодо. Кожа чистая, на щеках нежный румянец, морщинок не видно. А волосы белоснежные.
— Ну? — она поймала его взгляд в зеркале. — Так лучше? Ты видишь, я совсем седая. Красить неохота, да и незачем. Тебе это все равно. А мне, кроме тебя, красоваться ни перед кем не хочется.
Прежде чем ответить, он вдруг наклонился и поцеловал ее в макушку. Нет, не только ладаном и мылом от нее пахло. Было еще что-то, такое знакомое и теплое, что у него перехватило дыхание и стукнуло сердце, мягко, гулко, радостно. Они смотрели друг на друга в зеркале. Дрожь прошла. Он увидел себя глазами жены и показался самому себе вполне молодым, красивым. Она до сих пор любит его, все ему простила и будет еще прощать, бесконечно. Если есть живое существо на свете, которое никогда не предаст, не отречется, не забудет, так это только она, Галина. Надо быть тупой скотиной, слепым самоубийцей, чтобы пренебрегать этим.
Он обнял ее, зарылся лицом в ее волосы и сам не заметил, что уже скользит губами по ее шее, а пальцы расстегивают пуговки дурацкой скромненькой блузки, одну за другой. Она откликнулась, вся раскрылась навстречу, в ней оказалось столько жара и нежности, сколько не было ни в одной женщине. Он с детским восторгом обнаружил, что под бесформенным темным тряпьем тело у нее гибкое, тонкое, такое же, как четверть века назад.
Все его страхи, тоску, отчаяние она вобрала в себя, впитала без остатка. Она принимала его любым, слабым, жалким, злым и капризным, каким угодно. Только бы сохранить эту новую, невозможную, звенящую легкость, всегда чувствовать себя таким свободным и счастливым. Сберечь, запечатать в памяти, пришпилить, как бабочку к картонке.
— Галя, где же ты была раньше?
— С тобой, Женечка, все эти годы, каждую минуту, только ты не замечал этого.
— Почему? Господи, ну почему? Столько лет прошло, в какой-то глупости, в пошлости, в суете, теперь мы старые, время летит, так мало осталось.
Звонил телефон, стучали. Несколько минут они лежали неподвижно, глубоко дышали, близко сдвинув лица, смотрели друг на друга. В дверном проеме, в сладком радужном тумане, возникла физиономия Егорыча.
— Пошел вон! — весело сказал Евгений Николаевич. А Галина Дмитриевна попыталась натянуть простыню, но только запуталась в ней.
Дверь хлопнула. Они смеялись и целовались сквозь смех.
— Ты опоздаешь! — заявила она, когда вдали, в гостиной, часы пробили половину одиннадцатого.
Они стояли перед зеркалом, обнявшись. Ничего на них не было. Галина Дмитриевна выскользнула на секунду в ванную, вернувшись, осторожно промыла перекисью его порезы, припудрила сухим стрептоцидом.
— Ну вот, теперь вообще ничего не заметно.
— Как мне не хочется, чтобы ты одевалась во все это тряпье.
— Что, прямо так и ходить? Меня неправильно поймут. И потом — вдруг похолодает?
— Нет, ну что-то другое есть у тебя? Какая-нибудь нормальная одежда осталась?
— Осталась. Но тебе вряд ли понравится. После больницы я ничего нового не покупала, а все, что было в той, прежней жизни, в храм отдала, бедным.
— Зачем?
— Так получилось. С каждым платьем, с каждым костюмом было связано что-нибудь очень плохое.
— Что ты хочешь этим сказать? — он слегка отстранился и нахмурился.
— Ничего, — она потерлась лбом об его плечо, — пойдем завтракать, ты опоздаешь.