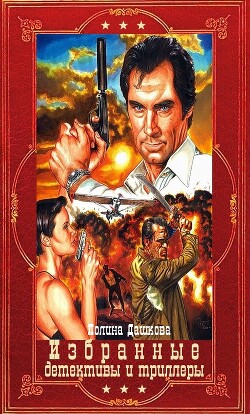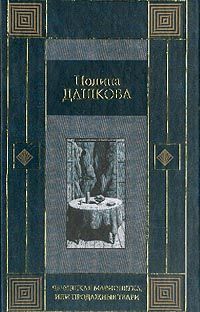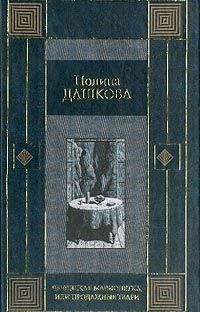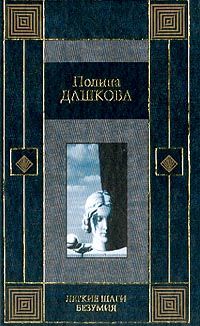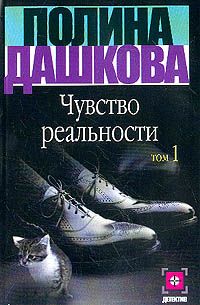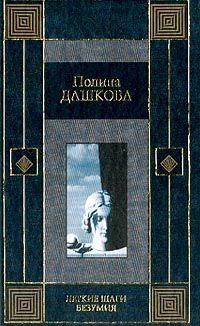Сейчас, в апреле 45-го, он падал, летел вниз с нарастающей скоростью, совершая в воздухе забавные телодвижения. Штраус мог бы помочь своему другу Гейни — нет, не удержаться наверху. Никакой вершины уже не было. Остались только кровавые закопченные обломки. Отто мог смягчить падение, не дать милому Гейни раз биться насмерть. Однако доктору это не нужно было Время Гиммлера кончилось. Для Штрауса начиналась другая эпоха. Падающая мышь интересовала его лишь как объект лабораторных наблюдений.
Едва пи не больше, чем английских и американских бомб. Гиммлер боялся встречи с Борманом. Он не переносил открытого взгляда в глаза врагу. Борман был враг хитрый и сильный Но даже он, при всем своем прагматизме, не желал видеть, что все уже кончилось. Он по инерции продолжал интриговать, отталкивать всех от фюрера Бедняга Мартин не понимал, что нельзя быть тенью тени. Не понимал этого и Геббельс. Вместо того чтобы удрать подальше с женой и детьми, он привез свое семейство в страшное здание рейхсканцелярии и поселил всех бункере, рядом с разлагающейся биологической оболочкой своего искусственного божества.
Геббельс шел медленно, как во сне, тяжело прихрамывая и повторяя
— Этот народ не достоин нашего великого фюрера. Высокий прямой Штраус, вышагивая рядом с коротышкой Геббельсом, косился сверху вниз на его смешной носатый профиль
В глубине коридора маячили фигуры Бормана и Геринга. Первый был мрачен и спокоен. Второй нервозно сотрясал брюхом, пыхтел, таращил глаза. Все обменялись партийными приветствиями и прошли в просторный кабинет, служивший церемониальным залом.
Там строем, вытянувшись в струнку, стояли шестнадцатилетние мальчики в парадной форме «Гитлерюгенд». Отто Штраус смотрел на их здоровые молодые лица и думал — «Последнее живое мясо Германии. Исчезая, человекоподобная машина пытается утащить с собой как можно больше жизней Как они ждут его, как волнуются, какая честь для них — получить из его рук железный крест и благословение на героическую смерть с его именем на устах».
Наконец открылась дверь. Появился фюрер. Запах одеколона, которым побрызгала его верная Ева не мог заглушить зловония. Тусклые, без блеска глаза, еще недавно голубые, теперь мутно-белые, как у тухлой рыбы, равнодушно оглядели кабинет.
Адъютант держал большую бархатную подушку с железными крестами. Церемония проходила с похоронной торжественностью, в полной тишине. Все боялись, что Гитлер сейчас упадет или откроет рот, заговорит, что было бы еще хуже. Мальчики могут не выдержать его зловонного дыхания. Если кто-нибудь из них нечаянно сморщит нос, фюрер заметит. Реакции его настолько непредсказуемы, что может случиться скандал
Фюрер переходил от одного мальчика к другому, трясущимися руками крепил к их поглаженным белым рубашкам железные кресты. Мальчики выбрасывали руки в партийном приветствии, привычно выкрикивали «Хайль!». У некоторых были еще детские голоса.
При каждом выкрике Василиса вздрагивала. Ей казалось, она сейчас задохнется от вони, исходившей от сгорбленного распухшего чудовища. То, что она наблюдала сквозь глазницы Отто Штрауса, не могло быть правдой, но она знала: все это было на самом деле, пятьдесят семь лет назад. И все это происходит опять, в каком-то ином, вневременном измерении, где прошлое переплетается с будущим и ничего не исчезает бесследно.
Церемония завершилась.
— Мне надо поговорить с вами, Отто, — сказал Гитлер, проходя мимо Штрауса.
— Да, мой фюрер.
— Ты должен осмотреть его, — прошептал Гейни, — он совсем плох. Мне надо знать, сколько еще осталось.
— Конечно, Гейни.
— Вы принесли, что обещали? — спросил Геббельс.
Штраус молча кивнул, и нахмурился, услышав отчаянное чужое «Нет!» у себя в мозгу.
Василиса знала, что речь идет о капсулах с цианистым калием Геббельс собирался взять их не только для себя, но и для жены, и для шестерых детей. Младшая девочка совсем маленькая, ей три года. Старшей всего четырнадцать.
Штраус открыл портфель, достал небольшую картонную коробку, протянул Геббельсу.
— Здесь десять штук. Вы просили восемь, я положил еще две, на всякий случай.
— Благодарю вас, доктор.
— Вы уверены, что хотите дать это детям? У меня есть возможность вывести их отсюда и передать под опеку Красного Креста.
Штраус не собирался говорить этого. Оно вырвалось само, он едва успел перехватить, перевести на немецкий, иначе эти две простые фразы прозвучали бы по-русски, они разрывали ему не только мозг, но и гортань.
— Еще раз благодарю, — сухо ответил Геббельс, — мы с Магдой приняли решение и не собираемся его менять.
— Господа, кто-нибудь может сказать, который час? — прозвучал на лестнице глухой голос Бормана.
Никто не мог. У всех остановились часы. Стрелки застыли на двенадцати.
— Это, наверное, как-то связано с вибрацией из-за бомбежки, — пропыхтел умник Геринг.
Фюрер ждал Штрауса в бункере, в своем кабинете. Штраус брезговал подходить к нему близко, но осмотреть все-таки пришлось. Было неприятно притронуться к страшной, изъеденной экземой, коже великого вождя. Тело его имело странный, зеленовато-багровый оттенок и уже мало напоминало человеческое.
— Кругом ложь и предательство, — говорил он чуть слышно, пока руки доктора щупали его живот, — все хотят, чтобы я покинул Берлин. Нет. Я останусь.
Заглянуть в горло вождю было крайне сложно, так сильно тряслась его голова.
— Кругом ложь и предательство, — повторил он, как только осмотр закончился. — Я останусь здесь. Или я выиграю битву за Берлин, или погибну в Берлине.
Когда он говорил, все в нем клокотало, гудело, поскрипывало, как будто сквозь тихие звуки человеческого голоса проступал натужный скрежет последних оборотов сломанного механизма. Несколько раз, как заевшая пластинка, он повторил: ложь и предательство.
«Протянет еще дней десять, не больше», — решил Штраус.
Василису затошнило. Она думала о шестерых маленьких детях, которые находились здесь, где-то совсем близко.
«Какие дети?» — раздраженно спросил себя Штраус. Но, покосившись на часы, понял, почему дети Геббельса все не выходят у него из головы.
— Вы не забыли о моих собаках? — спросил Гитлер.
— Нет, мой фюрер. Не забыл, — ответил Штраус и положил на стол картонную коробку с капсулами.
Когда генерал покидал кабинет, позади него прозвучал скрипучий механический голос:
— Нас только двое в мире. Двое гигантов.
— Простите, вы о ком, мой фюрер? — спросил Штраус.
— О Сталине.
«Ты подумал, он имеет в виду тебя? Ты правда решил, что тебя он считает гигантом, равным себе?»
Штраус зажал уши ладонями. Его шатнуло к стене. Еще один шаг, и он ударился бы головой о притолоку.
— Что, так плохо, доктор? — услышал он рядом живой женский голос с приятным баварским выговором.
В маленькой гостиной, смежной с кабинетом Гитлера, за столом сидела молодая белокурая женщина, пухленькая и свежая. Круглое лицо было напудрено, на губах блестела красная помада. Короткие волосы аккуратно завиты и уложены.
— Добрый день, фройлен Браун, — откашлявшись, уронив руки, сказал Штраус.
— Сядьте и расскажите, — приказала Ева и принялась подпиливать свои длинные ногти серебряной пилкой. Штраус послушно опустился в кресло напротив.
— Сожалею, но порадовать мне вас нечем.
— Что-то еще можно сделать, чтобы облегчить его страдания, поддержать в нем силы? — пилка вопросительно замерла и тут же занялась следующим ноготком.
— Глюкоза, витамины, — Штраус пожал плечами и добавил, кашлянув: — свежий воздух. Больше прогулок на свежем воздухе.
Ева удивленно вскинула тонкие, как ниточки, брови.
— О чем вы говорите? На улице бомбят и стреляют.
— Простите, фройлен, тут я бессилен, — Штраус поднялся.
Ему надо было скорее уйти. В голове у него опять зазвенело, громко и требовательно: «Дети. Шесть маленьких детей. Младшей девочке три года».
— Вы уже уходите, доктор? — разочарованно спросила Ева.