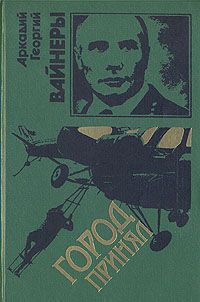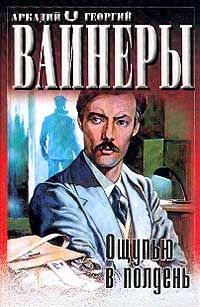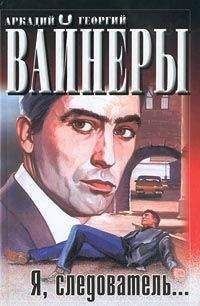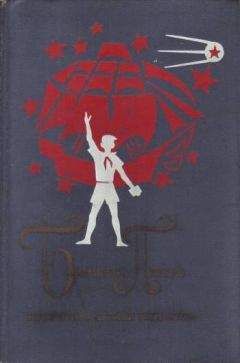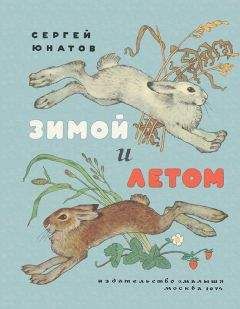— …Эх, если теща к нам не переедет, что с девочкой делать — ума не приложу…
— …Но ведь сорок семь тысяч вы же на обыске изъяли?…
— …Пластинка — обалдеть можно, Рей Конифф, «Смех под дождем» называется…
— …Мне к Новому году в Бибиреве квартиру обещали как из пушки…
— …У Шавырина дела неважные — финка прорезала плевру и задела легкое…
— …Тут я не выдержал и с двух стволов в него — раз! раз! Наповал! Глухарина на четыре кило…
— …Башкин, зануда, грозится, если дело не закончу, на сессию в институт меня не отпустит…
— …А пьяный говорит нам: если бы я разглядел, что машина милицейская, я бы ее пинать ногой не стал…
Рита отодвинула тарелку, посмотрела на меня, сказала медленно:
— Ты и теперь ешь, как раньше…
— А как я ем?
— Мне кажется, ты не ощущаешь вкуса. Со стороны такое впечатление, что тебе все равно, какая еда…
— Наверное. — Я пожал плечами и вдруг, совершенно неожиданно для себя самого, спросил: — А как ест твой муж?
Рита положила на стол вилку, долго смотрела на свой гуляш, будто припоминала, как должен отнестись к этим розовато-серым комкам мяса, испачканным коричневой жижей, ее муж — неизвестный мне распрекрасный молодец, который лет шесть назад показался ей много интереснее и привлекательнее меня. Настолько, что она разорвала — мгновенно, навсегда — все связывающее нас, будто пучок истлевших ниток…
— Мой муж, — ровным голосом сказала Рита, — ест всегда с большим аппетитом. Спит только на правом боку и всегда без сновидений. С умеренным азартом играет по полкопейки в преферанс. По телевизору смотрит «Клуб кинопутешествий» и «В мире животных». По утрам бегает трусцой. На работу всегда ходит с охотой. Я подробно рассказала о нем?
— Да, по-видимому, — сказал я неуверенно.
— А почему ты спросил?
— Не знаю. Просто мне хотелось представить его…
Рита отпила глоток кофе, закурила сигарету:
— Он врач. В подмосковном санатории. Не злой. И не добрый. Далеко не глупый, но и ум его мне не очень понятен. Вполне здоровый. Всегда в ровном настроении. Совершенно равнодушный. Никакой…
Мимо нас прошел инспектор Колотыгин из 2-го отдела, поздоровался, включил висящий на стене радиоприемник, и из белой коробочки рванулся ко мне голос Кати:
— Вы слушаете программу «Маяк»…
И в голосе ее было столько торжественности и обещания необычного, будто она вела радиопередачу с Марса.
— На волне «Маяка» — музыка из кинофильмов…
Ладно, пускай будет музыка из кинофильмов. Катя ее нам посулила так же, как она говорит мне вечером: «Знаешь, Стас, я так закрутилась, что не успела приготовить ужин. Но я по дороге домой купила торт-мороженое: это ужа-а-сно вкусно!..»
Рита положила ладонь на мою руку и спросила тихо:
— Стас, а ты доволен своей жизнью? Своей работой?
— Я делаю то, что умею.
Рита быстро взглянула на меня:
— Твоя работа требует особого умения?
И я допил свой кофе, отставил чашку, посмотрел на струйки дыма от ее сигареты — голубовато-серые, текучие:
— Да, думаю, что требует.
— А в чем же оно, это умение?
Я откинулся на стуле, с прищуром посмотрел на нее — когда-то такую близкую, неотторжимую, часть меня самого, самую главную, самую важную часть моего существа, а теперь навсегда оторванную очень здоровым равнодушным человеком, бегающим по аллеям санатория трусцой. Почему-то он представился мне похожим на мерина.
И бушевали во мне два чувства — твердая решимость не говорить с ней ни о чем и острая потребность рассказать ей все. И эти чувства сшибались во мне, как недавно бились грудь в грудь на плацу Юнгар и Шах. И битва чувств была ненастоящая, понарошечная, без злости…
— Все люди смотрят друг на друга мельком, как мы смотрим на часы: большая стрелка — вверх, маленькая — вниз, все понятно — шесть часов. А сыщики как часовщики: их интересуют не столько стрелки, сколько система шестеренок и пружин, образующих часы…
Рита настойчиво спросила:
— Что же надо для этого уметь? Быстро думать? Много помнить? Внимательно слушать? Хорошо стрелять?
— Наверное. Наверное, это тоже надо… А главное… как бы это сказать… Надо уметь удариться сердцем о чужую беду…
А из репродуктора летели над нами огромные порции торта-мороженого. Целые айсберги мороженого погребли под собой шум и гомон столовой. Мы были с Ритой одни в этом буране из мороженого, и, чтобы лучше слышать, она наклонялась ближе ко мне.
— Да-да, Рита. Ничего здесь не попишешь, работа у нас особая…
— И ты счастлив?
Как хорошо, что нас закружила мороженная метель, что мы только вдвоем, что нас никто не слышит! Как хорошо, что так много музыки в кинофильмах, что она такая громкая…
И смех у меня, наверное, не очень натуральный:
— Эх, Рита, Рита! Это же несерьезно! До конца, во всем и всегда может быть счастлив только слабоумный. У меня полно своих огорчений, забот и тревог. Но я делаю дело…
А Рита сердится; она отбросила ложку и постукивает твердо кулаком по столу:
— Да пойми, Стас! Я ведь не шпыняю тебя! Я хочу разобраться! Понять! И тебя! И себя! Что-то проверить не в твоей, а в своей жизни! Тебе разве не хочется прожить жизнь сначала? Все повторить, чтобы не было массы глупостей, нелепых решений, ненужных поступков? Стыдных и горестных ошибок?
И шум мороженного обвала прекратился, уединенность наша в этом сладком грохоте исчезла, телебенькнули в эфире позывные «Не слышны в саду даже…», и Катя твердо напомнила:
— Говорит «Маяк». Московское время…
А я ответил Рите:
— Нет, не хочу. Если ты начинаешь новую жизнь, то куда девается старая? Если ты сам стал новым, то где ты похоронил себя старого?…
И может, Рита на все мне ответила бы, все объяснила бы и доказала, как когда-то, когда мы оба еще не совершили ненужных поступков, не приняли нелепых решений, не сделали массу глупостей, оказавшихся стыдными и горестными ошибками, но в дверях уже стоял Юра Одинцов и энергично махал нам рукой — на выход!..
— Милиция слушает. Замдежурного Микито…
— Здоровеньки булы, Микито! Это Гнатюк из восемнадцатого отделения тебя тревожит. Просьба у меня — тут прохвосты какие-то сняли баллоны с инвалидного «Запорожца». Мы в сводку дали, а вы передайте, пожалуйста, ориентировку побыстрее, а то жаль человека: без ног ведь…
У женщины было серое, смазанное от страха лицо. Она говорила медленно, словно у нее сильно замерзли губы. А когда ей неожиданно задавали вопрос, она резко вздрагивала и, будто глухая, долго искала глазами — кто спросил?
— …Что же это такое, Господи? Среди бела дня! Пропустил в лифт, спрашивает: «Вам какой этаж?» Нажал на кнопку, повернулся ко мне: «Давай, бабка, сумку!» И ножик перед глазами держит…
И такой в ней бушевал испуг, так от пережитого волнения тряслось все ее существо, что я сама ощутила эту резонансную волну — без всякого труда увидела гудящую пластиковую коробку лифта, онемевшую от ужаса старуху, зловещее посверкивание тусклой лампы на острие ножа, который еле-еле подрагивает перед глазами, тоскливое ощущение безнадежности, бессилие ночного кошмара — ни закричать, ни побежать, ни позвать на помощь, потому что уже сдвинулись дверцы лифта и, как медленные створки крематория, отделили от всех добрых людей на свете. Только мерное гудение моторов, скрип тросов и злой просверк ножа перед глазами…
— Сердце зашлось — слова молвить не могу. И руки отнялись…
— Я понял, дальше… — поторапливал ее Стас, и в этот момент мне неприятна его деловитость.
Я понимаю, конечно, что ему сейчас не до сантиментов — он дело делает, но лучше бы это говорил Скуратов. Для меня ведь он не только человек на работе. Да я, наверное, и сама бы не хотела, чтобы он меня видел на работе. На моей работе.
— Забрал сумку, вытащил кошелек из нее, а я только вчерась пензию получила — восемьдесят один рублик. И мелочи шестьдесят пять копеек… — Воспоминание о денежной потере как-то размягчило ее напряжение; в жаркой досаде из-за утраченной навсегда пенсии испуг стал медленно перетапливаться в горестную жалость к таким нужным, своим, честно заработанным деньгам. Из-под ее век трудно, как из-под камня, прорезались две мутные слезинки, и вместе с ними она будто шагнула снова к вам, к людям, к обычным нашим нуждам и огорчениям, захлопнув за собой дверь в пластиковую коробку, заполненную вместо воздуха ужасом смерти. — И еще спрашивает: «Часы есть?» «Нет», — говорю, а он, бандит, на палец смотрит! — и показала нам палец с обручальным кольцом, вросшим за долгие годы в живую плоть.
— Ну-ну, — нетерпеливо подгоняет ее Стас.
— Махнул он рукой, нажал кнопку — лифт пошел вниз. «Стой, — говорит, бабка, — и не шевелись, если жизнь дорога!» Дверь отпер и выскочил, а я в лифте осталась… Потом уж разглядела — на втором этаже… — Она прикусила губу, сухо, сипло вздохнула и, прикрыв тонкие пленочки век, попросила: — Валидола таблеточки не найдется?