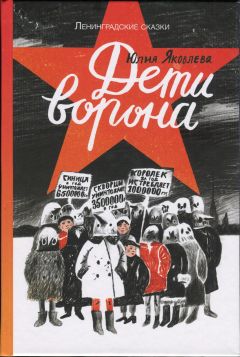Ознакомительная версия.
Крачкин пожал плечами:
– Товарищ Зайцев, мне ведь разговоры по душам вести некогда. Мне рынки и комиссионки обойти надо. Вы сами задание дали.
– Ты к чему клонишь?
– Как бы потом не вышло, что вы сейчас меня разговорами останавливаете, а потом меня же за это и в саботаже обвините.
Зайцев на миг онемел.
– Ты, Крачкин, чего? – сквозь зубы произнес он. – Ну!
Крачкин хмуро отодвинулся:
– Пустое это.
Отвернулся. Вынул коробку «Норда», прихватил зубами папиросу.
Зайцев вырвал у него изо рта папиросу, бросил на пол, растер.
– Мне теперь как? Увольняться со службы прикажете?
– Это уж не мое дело.
– Очень даже твое. Ваше. Я служить не стану, коль на меня собственная бригада как на врага смотрит.
– «Увольняться». Да кто теперь тебе даст? – устало произнес Крачкин и все-таки запалил новую папиросу. Зайцев ждал. Но Крачкин не собирался говорить.
– Выпустили, потому что не виноват я ни в чем. Разобрались – и выпустили, – сказал Зайцев.
Крачкин кивнул, затягиваясь, так что щеки впали. Мол, хорошо, как скажешь, только отстань.
– Я не стукач, – внятно произнес Зайцев. Он, видимо, верно угадал вопрос. Потому что Крачкин тотчас вскинул на него пристальный взгляд. Зайцев не отводил глаз.
Он понимал, что от этого разговора сейчас зависит многое.
– Да ведь если я не докажу этого ребятам, то нельзя мне в угрозыске больше ни минуты оставаться, Крачкин, – медленно проговорил он. – Ведь они слово лишнее при мне вымолвить опасаются. Помоги.
– Послушай, Вася, я ведь не обвиняю. Я знаю, что любого можно поставить в безвыходное положение. Любого. Меня тоже. И застучишь, как миленький.
– Я не стукач, Крачкин, – снова тихо и серьезно повторил Зайцев.
– Но выпустили же тебя.
– Что же мне теперь – идти обратно в тюрьму проситься?
Крачкин опять пожал плечами и на миг прикрыл веки.
– Но ты-то меня вроде не боишься, а, Крачкин?
– А я свое пожил. Я и революцию, и «красный террор» пережил. Я и так уже лет десять лишних хожу. Это они люди молодые. А тебя за что, кстати, арестовали?
– А тебя почему в 1920-м не шлепнули?
Крачкин засмеялся.
– Волчонок ты, Вася. Только ты меня, пожалуйста, в антисоветские разговоры не вовлекай, – ядовито улыбнулся Крачкин. – Я к тебе с пониманием, но и ты не безобразничай.
– Я тебе как есть говорю. Я человек прямой, ты знаешь.
– Ты прямой? – усмехнулся Крачкин.
Зайцев не стал углубляться в тему.
– А ты не подумал, Крачкин, что, может, это Коптельцев меня у ГПУ отбил в виду чрезвычайного преступления на Елагином?
– Это он тебе сам сказал? – быстро спросил Крачкин. – Ладно, Вася. Нам и этого сучонка Нефедова по горло хватает. И тургеневскими разговорами задушевными тут не поможешь. Если ты спрашиваешь, будут ли ребята работать под тобой аккуратно, на совесть, то ответ: будут. – Он взялся за ручку двери. – А о большем не проси.
– Крачкин…
– Не проси.
– Я знаю, как Нефедову жало-то вырвать. И вырву. Его я беру на себя.
Крачкин, не ответив, вышел. Но Зайцев видел: последние слова его задели.
Зайцев вышел за ним.
В коридоре стоял Серафимов, размаянный, в пальто. Кепка в руках.
– Серафимов! Рысью за Мартыновым! Командировочные задним числом оформим. Шлюх всех чтобы просеяли. Он пусть про девок расспросит, а ты про старуху. Бандерши – народ приметный. Да и картошку грузить поможешь, – весело добавил он. Хлопнул Серафимова по плечу.
Вынул из нагрудного кармана мятые купюры.
– На вот. Мне тоже жрачки какой-нибудь прихватите. По обстоятельствам. Если этого не хватит, потом отдам.
И сунул их Серафимову в руку.
– Мы же…
– А в театр со мной пойдет Нефедов. Нефедов! – гаркнул Зайцев так, что эхом отдалось в коридоре.
Совиное личико вынырнуло на зов.
– Одевайся! Культпоход.
Крачкин обернулся. В глазах его мелькнуло удивление. И тут же спрятал взгляд, как отдергивают руку.
Цепь с каменьями опознали в Государственном академическом театре оперы и балета.
Стоял он на отшибе от некогда парадных улиц царской столицы: там, где селились небогатые вдовицы, студенты, пенсионеры. Между Мариинским театром и Невским проспектом с его шикарными Морскими улицами сочилась главная городская клоака – Сенная площадь в сети грязненьких переулков.
Шли пешком. Говорить Зайцеву не хотелось. А Нефедов и не пытался. Зайцев это отметил: на откровенность пробить не старается. Знакомство накоротке завязать – тоже. Что это за стукачок такой? То ли дурак, то ли, наоборот, искусный гад. Зайцеву стало тошно, будто его заперли в банку с осой. А воздуха все меньше. Они вышли на Сенную.
В советском Ленинграде разница между парадной частью города и его дном как-то сгладилась. Парадные улицы обтрепались и просели, Коломна опустилась. А Сенная с ее переулками по-прежнему гнила и кишела. По-прежнему страшно торчала Вяземская лавра – длинный трехэтажный доходный дом, а на самом деле притон преступников всех мастей. Над Сенной площадью все время висел, как туман, человеческий грай: ругались, пели, покрикивали, зазывали, рявкали. Здесь торговали с рук старьем, толкали ворованное. Здесь по тротуарам среди дня валялись пьяные и валандались пьяненькие. Таскались нищие. Просили милостыню калеки. Из облупленных темных парадных дышало сыростью и мочой. Дома уныло глядели давно, вернее, никогда не мытыми стеклами. Прохожие торопливо месили вечную грязь. На всем лежала печать бедности, убожества, преступления.
Уж насколько серой была толпа на Невском, то бишь проспекте 25 Июля, а и там попадались то свеженькое розовое личико, то бобровая шапка, то нежное заграничное пальто. На Сенной все было серым, обтерханным, безнадежным.
Зайцев задрал голову. На бывшей Вяземской лавре, стуча молотками, грохоча досками, монтировали леса. По крыше сновали рабочие. Собирались надстраивать этажи. В Ленинграде катастрофически не хватало места и жилья.
– Че рот разинул, – тут же ткнули его в бок. Останавливаться на Сенной было не принято.
Рокот человеческих голосов прорезал женский визг:
– Сумка! Сумка моя!
По бурлению толпы можно было видеть, куда бежит воришка, расталкивая тех, кто сам не успел посторониться. Ввинтился свисток постового.
На Зайцева, теряя равновесие, с размаху налетела какая-то женщина с сумками. Зайцев ощутил локтем пистолет в кобуре под пальто. Он успел только уловить движение сбоку. Кто-то поднырнул мимо них. Нефедов сделал неуловимое движение рукой. И прежде чем кто-либо успел понять, что случилось, вор брыкнул ногами в воздухе и, потеряв опору, плашмя рухнул на спину.
Лицо Нефедова осталось все таким же сонным. А рука крепко стискивала лежащего за запястье.
Зайцев быстро подскочил и схватил вора как бы в объятия.
– Смотри, Нефедов, в оба! Как бы он сумку не сбросил!
Вокруг них быстро образовалось плотное кольцо зевак. Расталкивая толпу, пробирались двое постовых в форме и касках. Щеки у одного, что помоложе, как два яблока. «Тоже, видать, деревенское пополнение», – подумал Зайцев.
– Мы из угрозыска, – просипел Зайцев. Вор в его руках бился, как рыба, и извергал матерные проклятия. – Взят на месте, с сумкой. Принимай клиента.
Нефедов сверкнул удостоверением. Милиционеры заломили вору руки и повели в отделение. Обокраденная женщина семенила за ними.
– Молодец, Нефедов. Реакция отменная, – Зайцев одернул пальто. – В армии так насобачился?
Он по-прежнему делал вид, что не знает, где Нефедов служил прежде.
Тот вдруг покраснел. «Колись, голубчик», – с неприязнью подумал Зайцев.
– В цирке.
– В цирке?
– Сбежал из дома пацаненком. Я ловкий был и малой совсем.
– И чего ж ты там делал? В цирке? Только не свисти, что французской борьбой занимался.
– Нет-нет, – еще гуще заалел Нефедов. – Номер такой был – «Икар и сыновья». Может, помните? Вроде гимнастики. Акробатический. Я был которые «сыновья». Вы только не говорите никому.
– Да ладно. Вот удивятся все. Артистов у нас еще не было.
– Правда, не надо. Ко мне и так отношение… не очень.
Зайцев хмыкнул. Или Нефедов был не только акробатом в прошлом, но и актером драмы в настоящем, но только его простодушный тон показался Зайцеву искренним.
– Это тебе, друг ситный, померещилось. Отношение, я имею в виду. Это угрозыск, а не клуб по интересам. Тут настроением драгоценным никто ни у кого не интересуется. А отношение ко всем равное.
Нефедов не ответил.
Они прошли мимо ломбарда к горбатенькому деревянному мостику. Оголившиеся тополя роняли в Крюков канал последние бурые листы. О гранитный оклад канала бился мусор.
– Алексей! – крикнул кто-то за спиной.
Зайцев ступил на мостик. И тотчас обернулся, почуяв близкое дыхание за спиной.
– Алексей!
Перед ними стоял человек. На вид ему можно было дать любой возраст от двадцати до тридцати: лицо молодое, но усталое, как бы высосанное изнутри. Клетчатое пальто явно знавало лучшие времена. Но одежда чистая. Он слегка запыхался от бега. Изо рта в холодном октябрьском воздухе вырывался парок. Пальто нараспашку. В руке он все еще держал ломбардную квитанцию.
Ознакомительная версия.