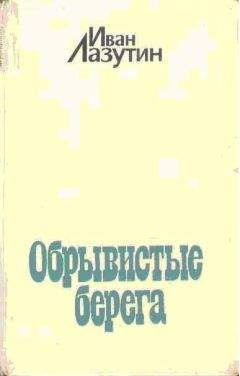Глава тридцать пятая
Последние два дня Валерия угнетало ничем не объяснимое предчувствие какой–то беды. Спал плохо, снились тревожные сны, в которых обязательно в мрачных подробностях представала тюремная камера и мерзкое лицо Пана. Втянув голову в бугры сильных плеч, он, угрожающе скалясь в злой улыбке, согнув ноги в коленях, медленно двигался на Валерия. Щеки его при этом конвульсивно втягивались между зубов, готовясь к плевку. Валерий просыпался с учащенным сердцебиением, вскакивал с дивана, шел в ванную, подставлял голову под кран с холодной водой, потом, наспех утеревшись махровым полотенцем, включал свет во всех комнатах и подолгу стоял перед большой фотографией матери, с которой она смотрела на него с таким выражением, словно счастливее ее не было человека на целом свете. Ей было тогда двадцать лет. Не чуяло ее сердце тогда, что в одну из тяжких годин жизнь бросит ее судьбу несчастной матери на такой конвейер потрясений, с которого живыми сходят немногие. А вчера вечером он обидел Эльвиру. Видя, что Валерий хандрит и, тоскуя по матери, почти совсем ничего не ест, она вдруг изъявила желание остаться у него ночевать. Это удивило Валерия, и он посмотрел на нее так, что от взгляда его щеки Эльвиры полыхнули жгучим румянцем стыда.
— Это нехорошо. Мама твоя может подумать плохо и о тебе, и обо мне. К тому же она человек больной.
Как побитая, Эльвира вошла в лифт и, медленно повернувшись, с горьким укором посмотрела на Валерия. Он хотел что–то сказать ей в свое оправдание, но не успел. Эльвира проворно захлопнула перед собой дверь лифта, и Валерий увидел, как световой глазок у проема лифта загорелся красным.
Первый раз за последние полгода они расстались, не поцеловавшись и не условившись о завтрашней встрече.
Сегодня в полосу тягостного настроения занозой впилась вчерашняя обида Эльвиры. Он знал, что ее желание остаться у него ночевать было продиктовано единственным — не оставлять его одного в таком подавленном состоянии. Но он не нашел тех правильных и нежных слов, которые нужно было бы сказать ей в эту минуту в ответ на ее внимание к нему и заботу о нем. А потом этот его взметнувшийся взгляд… Он уколол ее жалом укора, который Эльвира, как женщина, прочитала по–своему, не так, как хотел бы этого Валерий.
Два раза он звонил ей сегодня утром, но мать сказала, что Эльвира нездорова, что она с головной болью уснула только под утро, приняв снотворное. Голос матери был болезненно–печальный, в нем проскальзывали нотки тайной обиды.
Вдруг откуда–то с верхнего этажа послышалась песня Высоцкого. Хрипловатым, сдавленным голосом он пел о нелегком детстве московских ребятишек из многонаселенных коммунальных квартир, у которых отцы не вернулись с войны.
«Высоцкий… Высоцкий… Он как пожар в дремучей засушливой тайге: чем порывистей ветер, тем жарче и азартнее бежит пламя, тем огонь неукротимей…»
В эту минуту Валерию вдруг очень захотелось послушать последнюю магнитофонную запись Владимира Высоцкого. Перед туристической поездкой по местам боевой славы он записал его песню, прослушал ее всего два раза, она сразу же взволновала его предчувствием близившегося трагического конца популярного у молодежи артиста и поэта. Искал кассету везде: в ящиках своего стола, в секретере, на полках бельевого шкафа, на книжных полках — кассеты нигде не было. «Наверное, взял он. Он тоже любит Высоцкого». Валерий бегло осмотрел кабинет, книжные полки и, не найдя кассеты, выдвинул верхний ящик письменного стола Яновского. В глаза бросилась приколотая к большому фирменному конверту записка. На ней ученическим почерком красным фломастером было написано: «Альберту Валентиновичу».
Разворачивать записку Валерий не стал: посчитал это недостойным для порядочного человека, а в конверт пальцы как–то механически скользнули сами и извлекли из него издательский договор. Валерий пробежал глазами текст договора и снова положил его в концерт. «Восемь печатных листов… Интересно, что означает печатный лист? Не страница же это, не две?.. Не может же быть брошюра из восьми или двадцати страниц…»
Вместе с договором в конверте лежали три ломбардные квитанции, которые Валерий уже видел, и черновик заполненного бланка телеграммы, адресованной некой Оксане. Текст телеграммы Валерия словно обжег: «Срочно придумай как выкупить ломбардные безделушки. Подонок видел квитанции могут быть неприятности. Целую твой Альберт».
К лицу Валерия горячей волной прихлынула кровь. Такое ощущение он уже испытал однажды, когда в камере изолятора рецидивист плюнул ему в лицо за то, что он не так ответил на его вопрос. Руки его дрожали. «Порвать?.. Сжечь все это? — мелькнула мстительная мысль, но рассудок сработал правильно. — Нет, это очень легко. Бумагу эту можно восстановить… Я причиню ему боль по–другому!.. Не прощу!..»
Прикалывая записку к конверту в том месте, где она была приколота, он обратил внимание на почерк, который ему показался очень знакомым. «Постой, постой… Чей же это почерк?.. — И вдруг его словно озарило: — Да это же почерк Эльвиры».
Забыв о том, что читать чужие письма неприлично, Валерий развернул записку и прочитал ее. Вначале ничего не понял и, только перечитав вновь, догадался, что Эльвира в день его выхода из тюрьмы, пока он ходил в магазин, успела прочитать одну из подглавок диссертации отчима. Но где она, эта подглавка, в которой он позорит и оскорбляет мать и его, Валерия?
Эту подглавку долго искать не пришлось. Подчеркнутые в записке Эльвиры два слова «Святая ложь» сразу же бросились в глаза в одной из разложенных на столе главок диссертации. Валерий на всякий случай закрыл коридорную дверь на цепочку, прошел в свою комнату и принялся читать подглавку диссертации отчима.
Уже с первых строк текста Валерий понял, чем была так обеспокоена и встревожена Эльвира, когда он вернулся из магазина с покупками.
«…Когда ребенок подрастает и начинает все острее и острее чувствовать, что кроме материнской ласки природа даровала ему еще и право опоры на твердое плечо отца, то огонь «святой лжи», бездумно зажженный матерью, начинает жечь все сильнее и сильнее. Кульминация драматизма этой «святой лжи» наступает, когда подростку (юноше или девушке) исполняется шестнадцать лет. Для получения паспорта (знаменательный порог в человеческой судьбе: вчерашний подросток начинает гордо носить имя — гражданин СССР) в паспортный стол отделения милиции нужно сдать свидетельство о рождении, а в этом документе в графе «отец» (этого документа завтрашний гражданин еще ни разу не видел, мать его хранит под семью замками, как гремучую ядовитую змею) стоит небрежный прочерк черными чернилами. Отца нет. А ведь отец–то был! Не из ребра же Адама выточен завтрашний