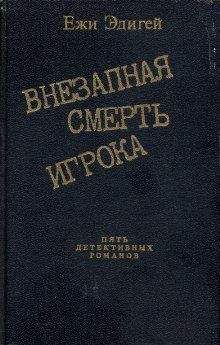Но ведь, пан прокурор, такие рассуждения не выдерживают критики. Если бы я вставил в пистолет эту пулю, то не торопился бы спасать Зарембу. Пусть себе умирает на сцене. Я делал бы вид, что ничего не заметил. А я увидел кровь на рубашке актера и прервал представление. Когда я рассмотрел рану поближе, то понял, что это не царапина от пыжа, а смертельная рана, то есть убийство. Но ведь перед спектаклем мы с реквизитором проверяли: в стволе находился холостой патрон.
Дальнейшие события развивались молниеносно. Милиция оказалась на месте уже через три минуты. Почти одновременно прибыла «скорая помощь», и вслед за ней — вторая милицейская машина, с оперативной группой.
Я встретил милицию у входа в театр. В двух словах объяснил, что произошло, и проводил на сцену. Заремба по-прежнему лежал без сознания на полу. Возле него хлопотал врач «скорой помощи». Насколько я помню, он сделал ему какой-то укол — очевидно, для поддержания сердечной деятельности. Моя жена все еще стояла на коленях рядом с Марианом и поддерживала его голову. Вокруг толпились актеры, рабочие сцены и осветители, суфлер, режиссер, директор и кто-то из секретарш.
При виде милицейских мундиров Барбара вскочила и закричала, указывая на меня:
— Вот убийца! Это он убил Мариана!
Бросив это чудовищное обвинение, жена забилась в истерике. Кто-то удерживал ее, так как она хотела на меня броситься, со сцены ее увели почти насильно. Врачу пришлось дать ей успокоительное.
Милиция действовала так, как полагается в подобных случаях. «Скорая» увезла Зарембу в клинику. Нам запретили покидать театр и допрашивали до поздней ночи. Лишь после двух часов всем позволили разойтись, а меня арестовали и доставили в милицию.
Обвинение, выдвинутое против меня милицией, основано на четырех пунктах.
Первое: я публично угрожал убить Мариана Зарембу. Я объяснил уже, что произнес эти слова в ссоре с женой, не помня себя от гнева. Им нельзя придавать никакого значения. Я никогда не думал об этом всерьез. Свидетели могут подтвердить, что в принципе я человек сдержанный, умею владеть собой. Но иногда мне изменяет самообладание, я выхожу из себя и не отдаю отчета в своих словах и поступках. В доказательство этой черты моего характера могу сослаться на два случая. Года четыре назад я поссорился с тогдашним директором «Колизея», моим близким другом Збигневом Дербичем. Я выкрикивал в его адрес различные бессмысленные угрозы и даже выскочил из директорского кабинета в поисках оружия. Разумеется, я вскоре опомнился и извинился перед директором. Он-то меня хорошо знал и от души потом смеялся.
Второй скандал случился год тому назад. На этот раз я поссорился из-за какого-то пустяка с главным машинистом. Какие-то мелкие неполадки на предыдущем представлении, а в результате, слово за слово, я набросился на беднягу с кулаками, так что он обратился в бегство. Ссора произошла на сцене. Я гнался за ним до самой лестницы, ведущей к балкончику осветителя. Конечно, опомнившись, я извинился перед машинистом, и он, зная меня много лет, согласился забыть об этой истории. Если бы моя жена была объективным свидетелем, она подтвердила бы, что есть такая черта в моем характере. Правда, такие вспышки случаются со мной очень редко, не чаще, чем раз в несколько лет.
Второй пункт обвинения — тот факт, что я прервал представление, велел опустить занавес и вызвать врача и милицию. Якобы, будучи преступником, я отлично знал, что произошло на сцене, и, проявляя чрезмерную «оперативность», хотел отвести от себя подозрения. Я уже опроверг эти аргументы и не считаю нужным к ним возвращаться.
Третье: я подал пистолет актеру, выходящему на сцену. После уже никто не имел возможности заменить холостой патрон боевым. Подавая оружие, я обязан проверить, заряжено ли оно, и если заряжено, то чем. Я, мол, этого не сделал, так как хорошо знал, что в пистолете смертоносный заряд. Эти обвинения, на мой взгляд, несостоятельны. В целом мире помреж подает выходящим на сцену актерам нужный реквизит. Я никогда не проверял пистолет в момент передачи его актеру, потому что времени на это уже нет. Мы с реквизитором ежедневно проверяли оружие, когда готовили все необходимое для пьесы «Мари-Октябрь». Так было и перед роковым спектаклем. В пистолете был холостой патрон. Да, признаю: на сцене уже никто не смог бы заменить патрон. Но прошу заметить, что реквизитор положил пистолет на столик вместе с другими предметами. Это было за час до начала спектакля. Я ни к чему не прикасался вплоть до момента, когда, по ходу действия, взял пистолет со столика, подал актеру и дал ему знак выходить на сцену.
Около столика крутились все актеры. Направлялись в гримерные, выходили на сцену, возвращались обратно. Много раз проходили мимо директор театра Станислав Голобля, постановщик спектакля Генрик Летынский. Поблизости были и суфлер, и рабочий, поднимающий занавес. Осветитель, место которого на балкончике над правой кулисой, тоже не мог миновать по дороге столик с реквизитом. Любой из актеров, режиссер, директор, суфлер, машинисты — все эти люди имели возможность взять пистолет и заменить патрон. Эта операция требует не больше пяти секунд. Их всех можно подозревать наравне со мной. Почему их не арестовали? Почему выбрали именно меня? Почему Вы, пан прокурор, дали санкцию на мой арест?
Наконец, четвертый и последний аргумент: даже собственная жена обвинила меня в преступлении. Этот аргумент страшен только с виду. Надо учесть, что в последнее время наша супружеская жизнь оставляла желать лучшего. Почти ежедневно доходило до ссор и взаимных обвинений. Поводом чаще всего был Мариан Заремба. Кроме того, бросая свое необоснованное обвинение, жена была в шоковом состоянии. Это понятно. Ведь именно от ее руки погиб Мариан Заремба. Она нажала на спуск и послала пулю прямо в сердце актеру. А я подал ей оружие. Таким образом, шок Барбары совершенно понятен, она не может отвечать за свои слова и поступки. Ее слова нельзя принимать всерьез.
Сотрудники милиции, стремясь как можно скорее разоблачить убийцу, пошли, к сожалению, по пути наименьшего сопротивления. Наскоро допросив всех присутствовавших в театре, они сочли, что виновным может быть только помреж, и, не задумываясь, упрятали меня за решетку. Вы, пан прокурор, оказались под влиянием их выводов. Я снова повторяю и буду повторять до конца. Даже если меня приговорят к смерти, я и под виселицей буду повторять: я невиновен.
Я невиновен».
«Я считаю, что ошибки, допущенные милицией в ходе следствия, а затем убеждение прокурора в моей виновности вызваны в значительной мере тем, что они не знают моей биографии. Тяжелые испытания, которые я пережил, не могли не повлиять на мой характер. Надеюсь, что результатом изучения моей биографии будет единственно правильный вывод: я не убивал Зарембу.
Уже в средней школе заметили, что у ученика Ежи Павельского — великолепный голос, лирический тенор. Я всегда любил петь, но ни я, ни мои родители не думали, что с таким голосом можно стать певцом. Учителя обратили на меня внимание и горячо убеждали отца дать мне соответствующее образование. Для родителей это были весьма обременительные расходы, потому что учиться пению до войны стоило дорого. Слишком дорого для скромного чиновника в министерстве торговли и промышленности, каковым был мой отец. По происхождению я, как говорится, «из трудовой интеллигенции».
Петь я начал еще до войны. О том, чтобы попасть в Варшавскую оперу, и речи быть не могло. Но меня пригласили в Познань, где мне, может, и удалось бы сделать карьеру, если бы не война.
Военную кампанию я проделал в одном из артиллерийских полков. Начал под Серадзом, кончил в осажденном Модлине. В плен не попал. Оккупацию пережил в Варшаве. Немного торговал, служил в строительной конторе. Устраивался как умел, но пения не бросал. В эти годы мой голос окончательно развился. Во время войны я ничем особо не отличился. Это не значит, что был трусом. Я был просто хороший солдат, который выполняет приказ, но без чрезмерной лихости. Когда посылали в атаку, шел вперед. Когда приказывали отступать, показывал неприятелю тыл. Стрелял, стараясь попасть в цель, но и заботился, чтоб в меня не попали. Во время осады Модлина был легко ранен в руку и, кажется, представлен к «Кресту за храбрость». Награды этой не получил и после войны никогда о ней не напоминал.
Когда в Варшаве началось восстание, я был на Мокотове. Явился в ближайший отряд и, как относительно молодой человек, к тому же подхорунжий, был в него зачислен. Воевал до самой капитуляции Мокотова. Мне повезло, даже ранен не был. И в плен не попал. В штатской одежде мне удалось выбраться из лагеря в Прушкове, симулируя перелом руки.
Сразу после освобождения я попал в Катовицы, в Силезский оперный театр. Первая большая партия, Ионтека в «Гальке», — и первый в жизни успех. Год прослужив в Катовицах, я уехал за границу, и там началась моя карьера.