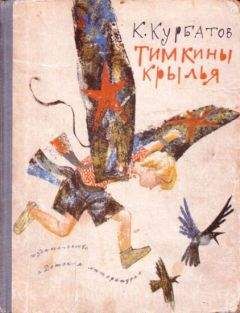Я присел на краешек ее кровати и уставился в окно, на стекле которого застыли капли утренней росы. Она провела ладонями по моему лицу, шее и плечам, потом руки ее спустились ниже.
— Ты вчера поздно вернулся, — сказала она.
— Пришлось отвезти одного старика в ночлежку Салли в Лафайете.
Ее губы коснулись моего плеча. Тело ее было теплым со сна.
— Такое впечатление, что кое-кто плохо спал, — сказала она.
— Так и есть.
— Я знаю великолепный способ утреннего пробуждения. — Она вновь коснулась меня.
Я дернулся, и она отпрянула.
— Решил нацепить свой пояс верности? Или опять сомнения насчет мамочки?
— Вчера вечером я убил Виктора Ромеро.
Я почувствовал, как она напряглась всем телом. Через пару минут хрипло спросила:
— Это правда?
— Он того заслуживал.
Она снова застыла. Пускай она и была девчонкой-оторвой, выросшей в приюте, однако повела себя как любой нормальный человек, которому довелось повстречаться с убийцей.
— Черт дери, Робин, или я, или он.
— Я знаю. Я не виню тебя. — Она положила руку мне на плечо. Я вновь уставился в окно на мокрый от дождя столик красного дерева.
— Приготовить тебе завтрак? — тихо спросила она.
— Не сейчас.
— Могу поджарить тосты, как ты любишь.
— Я правда не хочу есть.
Она крепко обняла меня и положила голову мне на плечо.
— Ты меня любишь, Дейв? — спросила вдруг она.
Я не ответил.
— Ну же, Седой. Честно и откровенно. Ты любишь меня?
— Да.
— Нет, ты любишь не меня. Ты любишь то, что я тебе даю. А это большая разница.
— Я не настроен спорить с тобой сегодня, Робин, — отозвался я.
— Вот что я тебе скажу. Я все понимаю и не жалуюсь. Ты пожалел меня, когда от меня отвернулись все остальные. Ты представляешь, что я ощутила, когда ты взял меня в собор на Всенощную? До этого ни один мужчина так со мной не обращался. Мамочка уж подумала, что ей выпало счастье примерить хрустальные башмачки Золушки.
Она взяла меня за руку и поцеловала ее. Потом сказала, почти шепотом:
— Я всегда буду твоим другом. Где бы ты ни был, кем бы ты ни был, — всегда.
Я притянул ее к себе и поцеловал в ресницы. Ее ладони ласкали и гладили мои бедра, живот, ее дыхание щекотало мне грудь. Я заглянул ей в глаза, залюбовался ее нежной загорелой кожей и пухлыми губками. Она крепко прижалась ко мне, затем встала, заперла дверь на щеколду и скинула пижаму. Вернувшись, она присела рядом, с улыбкой наклонилась ко мне и поцеловала — так мать целует на ночь маленького сынишку. Я стянул с себя белье, и она уселась на меня верхом с закрытыми глазами; когда я вошел в нее, рот ее приоткрылся. Она гладила мои волосы, целовала меня в ухо и еще теснее прижималась ко мне всем телом.
Секунду спустя она почувствовала, что я возбудился и почти отстранился от нее, движимый животным мужским инстинктом завершить процесс удовлетворения, независимо от того, принимает ли в этом участие партнер. Однако она лишь приподнялась на локтях и коленках и улыбнулась мне, ни на секунду не переставая двигать телом, и когда я почувствовал слабость, чресла мои горели, а на лбу выступили капельки пота, она вновь принялась ласкать и целовать мои губы, щеки, грудь и тело, боясь упустить хоть один последний момент.
Потом мы долго лежали на простынях под вентилятором, наблюдая, как за окном разгорается новый день. Она повернулась на бок, посмотрела на меня и взяла мои пальцы.
— Дейв, не стоит так переживать. Ты просто хотел его арестовать, а он начал отстреливаться.
Я продолжал молча лежать на спине, глядя в потолок.
— Послушай, я знаю, что некоторые новоорлеанские легавые просто убивают людей, независимо от того, вооружены они или нет. А потом подбрасывают им оружие, как будто им пришлось отстреливаться. Но ты-то не такой, Дейв. Ты — хороший. Тебе не в чем себя упрекнуть.
— Ты не понимаешь, Робин. Я боюсь, что мне снова захочется кого-нибудь убить.
* * *
Встав с постели, я позвонил в участок и сообщил, что не выйду сегодня на работу; потом натянул тренировочные штаны и кроссовки и немного позанимался: потягал гантели под сенью мимозы и устроил пробежку вдоль берега залива. В корнях гигантских кипарисов все еще висели клочья утреннего тумана. Я зашел в старенький, сколоченный из некрашеных досок магазинчик, купил пакет апельсинового сока и выпил его, болтая по-французски с пожилым владельцем; потом трусцой вернулся обратно — к тому моменту солнце уже стояло высоко в небе, а в прибрежных камышах роились стрекозы.
Войдя в дверь, вспотевший и разгоряченный, я увидел, что дверь нашей с Энни спальни открыта настежь, замок на ней спилен. Солнечный свет врывался в комнату из окон, и Робин, в белом лифе и коротеньких голубых шортах, стоя на коленях, окунала щетку в ведро с мыльной водой и терла деревянный пол. Испещренные пулевыми отверстиями стена и спинка кровати были тщательно вымыты и влажно блестели. На полу стояла бутыль моющего средства и второе ведро, в котором откисали тряпки; и тряпки, и вода были ржаво-красного цвета.
— Что ты делаешь? — закричал я.
Она обернулась, но ничего не ответила, методично продолжая свое дело. Слышно было, как елозит по дощатому полу щетка. Когда она наклонялась, по ее загорелой спине туда-сюда ходили мышцы.
— Черт подери, Робин. Кто разрешал тебе сюда входить?
— Я не смогла найти ключ, пришлось поработать отверткой. Извини за разгром.
— Убирайся.
Она перестала тереть и села. Колени ее побелели. Тыльной стороной запястья она отерла со лба капельки пота.
— И это твой храм, куда ты каждый день приходишь страдать и каяться? — спросила она.
— А уж это не твоего ума дело.
— Хорошо, я уйду. Ведь ты этого хочешь?
— Я просто хочу, чтобы ты покинула эту комнату.
— Я долго пыталась понять тебя, Седой. Теперь-то я знаю: ты окружил себя чувством вины, точно москитной сеткой. Это как мазохисты: они получают удовольствие только тогда, когда хорошенько их отлупишь. Неужели ты вроде них?
С меня градом лился пот. Я глубоко вздохнул и отер со лба испарину и налипшие пряди волос.
— Прости, что нагрубил тебе. Но прошу, оставь эту комнату.
Вместо ответа она снова окунула щетку в мыльную воду и методично продолжала тереть пол.
— Робин, — позвал я.
Ответа не последовало.
— Это мой дом, Робин.
Я подошел к ней вплотную.
— Я к тебе обращаюсь. Больше никакой самодеятельности.
Она снова уселась на корточки и опустила щетку в ведро.
— Я все, — отозвалась она. — Ты собираешься стоять и скорбеть или все-таки поможешь мне убрать ведра?
— Ты не имела права так поступать. Я знаю, ты хотела как лучше. Тем не менее.
— Ты не должен «использовать» свою жену — хотя бы из уважения к ее памяти. Хочешь напиться — вперед. Хочешь пристрелить кого-нибудь — пожалуйста. Но хотя бы делай это в открытую и не прикрывайся угрызениями совести. Это тупик, Дейв.
Она ухватила ведро двумя руками, чтобы не расплескать, и направилась мимо меня к двери. На кипарисовых досках пола были видны следы ее мокрых босых ног. А я так и остался стоять посреди комнаты, тупо глядя на столбы пыли, поднимавшиеся к потолку в лучах солнца. Внезапно я увидел, что она направляется к пруду.
— Подожди! — заорал я.
Я подобрал с пола грязные тряпки, сунул их во второе ведро и бросился вслед за ней. Я остановился возле сарайчика, где хранился садовый инвентарь и газонокосилка, достал лопату и направился к небольшому цветнику, который жена Батиста разбила на берегу мелкого овражка, что пролегал через весь наш участок. Земля в нем была влажной и скользкой — текущий по дну овражка ручей переполнился дождевой водой и разлился. Клумбы частично затенялись банановыми деревьями, чтобы цветы герани не выгорали под палящим солнцем, другой же конец цветника был ярко освещен, и там пышно цвел барвинок и белели солнышки маргариток.
Это были не васильки и колокольчики, которые так любят канзасские девушки, но я знал, Энни бы меня одобрила. Прямо посреди клумбы с маргаритками я яростно выкопал глубокую яму, вылил туда оба ведра, покидал туда же тряпки и щетку, расплющил ногой ведра — и они полетели туда же; я засыпал яму влажной землей и дерном со сплетшимися корнями барвинка и маргариток. Потом я размотал поливочный шланг и поливал место «захоронения» до тех пор, пока оно не слилось с блестящей и гладкой землей, а мыльная вода не ушла вглубь.
Подобные поступки редко поддаются логическому объяснению. Я вымыл лопату, убрал ее обратно в сарайчик и направился в кухню, не сказав Робин ни слова; потом принял душ, надел чистые штаны цвета хаки и джинсовую рубаху, уселся за столик и стал читать газету. Я слышал, как Робин готовит на кухне обед, а Алафэр болтает с ней на смеси английских и испанских слов. Робин принесла мне сэндвич с ветчиной и луком и стакан чая со льдом. Когда она ставила поднос на стол, я даже не взглянул на нее. Она так и застыла возле меня, ее голые ноги были всего в сантиметре от моего локтя; внезапно я ощутил прикосновение ее пальцев к своей шее, волосам и влажному воротнику.