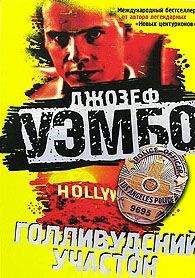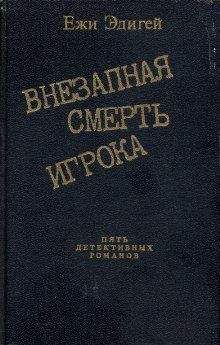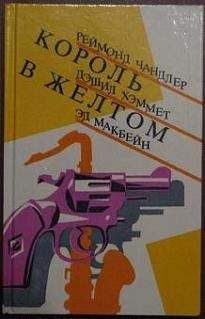И я начала думать, не должны ли мы устранить и Джози, сделать с ней то же самое, что с Мишель, — ведь тогда они обязательно отдадут роль мне, разве не так? Если Джози выйдет из игры? Кому же еще они смогут отдать эту роль, если не мне? Уборщице из театра, что ли?
И тогда я нашла сережку.
Сережку Джози.
Вы верите в судьбу?
Я в нее верю, целиком и полностью.
Я нашла эту сережку под умывальником в женском туалете. В театре. Я чуть не вернула ее хозяйке. Я знала, что это сережка Джози, я видела на ней такие серьги. Я чуть ее не вернула. Чуть не упустила ясный знак, что эта серьга послана мне. Понимаете, эта сережка подсказала мне, что я должна делать дальше. Она подсказала, как я могу получить роль, которая должна была быть моей с самого начала, и заодно — как мне избавиться от беспокойства, что Чак может расколоться и впутать меня в убийство, которое, в конце-то концов, было его идеей. Именно он первым предложил убить Мишель. Меня не волнует, поверите вы этому или нет.
Я прикинула, что если я смогу...
Если я смогу сделать так, чтобы это выглядело как самоубийство, понимаете...
Ну, если я смогу представить все так, будто Чак покончил с собой, то...
Оставить предсмертную записку и все такое.
Напечатать предсмертную записку.
Представить все так, будто Чак убил Мишель, а потом его замучила совесть, но потом...
Это было самое важное.
Нужно было, чтобы полицейские догадались, что это на самом деле не самоубийство, а убийство, которое кто-то только замаскировал под самоубийство, понимаете? Кто-то убил Чака и постарался, чтобы это выглядело самоубийством. Наверняка вам такое не раз попадалось, я раз десять играла в пьесах, где происходит нечто подобное. Я на самом деле рассчитывала, что вы видели такие штуки. Я рассчитывала, что вы найдете сережку, которую я оставила под кроватью, сережку Джози. Я рассчитывала, что вы решите, что это именно она была здесь и именно она занималась любовью с Чаком.
Мы здорово занимались любовью в тот вечер.
Я тогда удивила его.
Позвонила в дверь и сказала: «Привет, Чак».
Он был таким красивым.
Мы здорово занимались любовью.
Потом я сказала ему, что хочу выпить. Сказала, чтобы он не вставал, я сама все сделаю. Я пошла на кухню, смешала виски с содовой и добавила Чаку в стакан две таблетки далмана. Вот, дорогой, давай выпьем за наше будущее. Через десять минут он вырубился. Я стащила его с кровати и поволокла к окну, но оказалось, что в спальне окно не открывается из-за этого чертова кондиционера. Мне пришлось тащить Чака в гостиную, а он был таким большим и таким тяжелым. Я оставила его лежать на полу под окном, а сама пошла заниматься остальным. Я все еще была голая. Стаканы я оставила стоять там, где они стояли. Ведь здесь же была женщина, правильно? Я убрала бутылку с виски, напечатала записку — все это я делала не одеваясь. Я старалась, чтобы это выглядело не слишком подозрительно, чтобы вы сами догадались, что к чему. Ведь если бы это выглядело слишком фальшиво, вы бы начали думать, что кто-то нарочно сделал так, чтобы это выглядело фальшиво. Я вытерла все предметы, к которым я прикасалась, даже сережку. Сначала я хотела бросить ее на виду, но потом решила, что это будет слишком уж демонстративно, и забросила ее под кровать. Но не очень далеко. Я хотела, чтобы ее нашли. Я хотела, чтобы вы подумали, что Джози уронила ее, а сережка просто закатилась под кровать, да так там и осталась. Когда я стала одеваться, я долго не могла найти свои трусики. Чак их зашвырнул на другой конец комнаты. Я уже даже запаниковала. Оказалось, что они висели на ручке одежного шкафа. Я их искала на полу, а они висели себе на ручке шкафа. Представляете? Чак их бросил, не глядя, а они повисли на этой ручке. Чего только не бывает.
Самым трудным было выбросить его из окна.
Чак был таким тяжелым, таким большим.
Я кое-как приподняла его и закинула его руки на подоконник, а потом попыталась перекинуть его всего. Я уже оделась к тому моменту и даже вспотела от этих усилий. Я хотела выйти из квартиры сразу же после того, как выброшу его из окна, сойти по лестнице и выйти через черный ход. Я рассчитывала, что перед парадным входом как раз начнется суматоха и меня никто не заметит. Но тут я снова запаниковала: я не была уверена, что справлюсь с этим. Моих сил едва хватило, чтобы приподнять Чака так, чтобы его грудь оказалась на уровне подоконника. А потом вдруг... не знаю, что это было... я вдруг почувствовала себя такой сильной. Наверно, это был выброс адреналина или еще что-нибудь в этом духе, не знаю, — но только я вдруг подняла его, и... и он оказался почти невесомым... и он выскользнул из моих рук... и исчез. Просто исчез.
По дороге домой я молилась, чтобы вы нашли эту сережку и подумали, что это Джози убила Чака.
Потому что тогда бы вы ее арестовали. А я получила бы роль.
* * *
В этом городе пальмы можно было найти только в павильонах для тропических птиц в Гровер-парке и в Риверхедском зоопарке, и еще в некоторых теплицах Калмс-Пойнтского ботанического сада. В этом городе было не так уж много садов. Но на Вербное воскресенье можно было подумать, что пальма — самое распространенное растение в здешних краях.
Половина христиан, которые с пальмовыми ветвями в руках шли в церковь, понятия не имели, что в это воскресенье празднуется Торжественный Вход Христа в Иерусалим. Все, что они знали, — что священник благословит эти ветви, а они отнесут их домой и сделают из них маленькие крестики, которые можно прикреплять к лацкану или к воротнику. Некоторые пальмовые крестики смотрелись очень элегантно с этими миленькими зубчатыми краями.
Марку Карелле хотелось знать, почему отец не сделал такой крестик для него — ведь все остальные отцы сделали такие для своих сыновей. Карелла объяснил, что он не считает себя верующим католиком. Эйприл, услышав разговор отца с ее братом-близнецом, заявила, что она хочет стать раввином, когда вырастет. Карелла сказал, что он не возражает. Марк спросил, почему они должны ходить к бабушке два выходных подряд. Они же все равно пойдут туда на следующее воскресенье, на Пасху, так зачем идти еще и сегодня?
— Бабушка все время такая мрачная, — сказал Марк.
Это было точно подмечено.
Карелла отвел сына в сторонку и сказал, что нужно терпимее относиться к бабушке, она еще не пришла в себя после смерти дедушки. Марк спросил — а когда она придет в себя? Марку было десять лет. Как вы объясните десятилетнему мальчику, сколько времени может понадобиться женщине, чтобы прийти в себя после трагической гибели мужа?
— Мне не хватает бабушки, — сказал Марк. — Такой, какой она была раньше.
Это тоже было верно подмечено.
Карелле неожиданно пришло в голову: а понимал ли тот ублюдок, застреливший его отца, что вместе с отцом он убил и мать, убил так же верно, как если бы попал и в нее?
— А почему ты ей об этом не скажешь? — спросил он у сына. — Что, тебе ее не хватает?
— Она начнет плакать, — сказал Марк.
— А может, не начнет.
— Она теперь постоянно плачет.
— Я тоже иногда плачу, малыш, — сказал Карелла.
Марк посмотрел на отца.
— Правда, — сказал Карелла.
— Зачем этот сукин сын убил дедушку? — спросил Марк.
* * *
...Когда Роза Ли Кук приехала в Алабаму, здесь не было ни одного ресторана для белых, куда пускали бы цветных. Ресторан, в который сегодня привела ее Шарин, был просто забит белыми. Оглядевшись по сторонам, Роза Ли увидела всего одну черную семью, не считая их самих, — очень темный мужчина, его жена с чуть более светлым оттенком кожи и трое детей, разнаряженных ради Вербного воскресенья. Сама Роза Ли была одета в прекрасный костюм, который очень шел к ее коже цвета грецкого ореха. Этот костюм ей подарила Шарин на день рождения. Еще на Розе Ли была шляпка, которую она купила сама, украшенная крохотными желтыми цветочками. Конечно, Пасха будет только в следующее воскресенье, но Роза Ли уже сейчас предвкушала этот праздник.
Она была не из тех женщин, которые позволяют себе пить спиртное — ну разве что иногда глоток сладкого вина. Но сегодня был день, когда Христос во славе вошел в Иерусалим, и Роза Ли полагала, что в такой день простительно немного выпить. Потому, когда Шарин спросила, не хочет ли она выпить коктейль перед обедом, Роза Ли согласилась, только сказала, чтобы не подавали «Кровавую Мэри».
Роза Ли родила Шарин в тринадцать лет, и теперь, когда ей исполнилось пятьдесят три, женщины были больше похожи на сестер, чем на мать и дочь — они так часто слышали этот комплимент, что их от него уже тошнило. Одинаковый цвет глаз, одинаковый цвет кожи, похожие черты. Только у Шарин была короткая стрижка, а у ее матери из-под очаровательной шляпки выглядывали блестящие тугие локоны.
Они сдвинули бокалы и выпили.
Белый мужчина за соседним столиком явно восхищался ими. Роза Ли заметила это и тут же отвела взгляд, точно так же, как делала она это на Юге еще тогда, когда была маленькой девочкой. Еще в детстве ей внушили, что нечего нескромным поведением напрашиваться на изнасилование, и это убеждение осталось с ней на всю жизнь. Ни одному белому мужчине нельзя доверять. Когда негр видит по телевизору, как белые копы избивают Родни Кинга, он говорит: «А что в этом нового? Это происходит повсюду. Только теперь это решились показать». А когда белый человек видит по телевизору, как избивают Родни Кинга, он говорит: «Какой ужас, копы бьют этого несчастного негра!» Можно подумать, они не знают, что это происходит ежедневно в каждом городе Америки — белые копы бьют негра. Или запускают свои лапы под блузку негритянки. Или даже хуже — лапают ее за такие места, к которым они вообще не имеют права прикасаться, и все потому, что она оказалась у них под арестом.