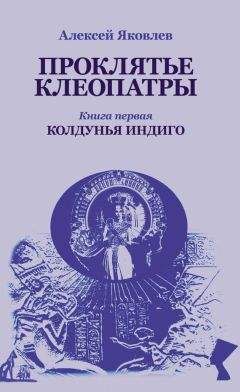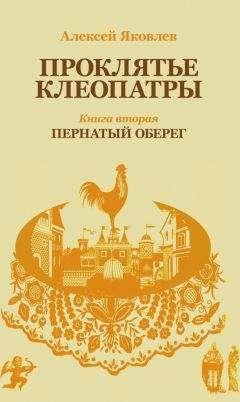Ознакомительная версия.
Ведь мой прадед по отцовской линии вроде бы был дворянином. Во всяком случае, во время Гражданской войны он сражался в Добровольческой белой армии за “единую и неделимую Россию”, желая, чтобы государь и дальше “царствовал на славу нам, на страх врагам”. И мой прадед по материнской линии тоже сражался на фронтах Гражданской войны, но только в рядах Красной Армии, и бился за то, чтобы “труд владыкой мира стал и всех в одну семью спаял”, а позднее — за “Союз нерушимый”. Сменовеховцы, почесав эмигрантские затылки, первыми заметили, что “единая и неделимая Россия” и “Союз нерушимый” — это как бы вроде почти одно и то же. Но озарение это на них снизошло, как это обычно и бывает, слишком поздно — постфактум, так сказать… А ведь, если отбросить все нюансы, выходит, что оба моих предка сражались за “Единый и неделимый Союз нерушимый” и оба были настоящими аристократами. Потому что кого же и считать настоящей элитой общества, то есть аристократами, как не их, отважных борцов за идею?! Уж не шкурников ли обывателей, все равно из какого сословия, хоть самого раздворянского, клопами забившихся по своим квартирным щелям и выжидавших, кто победит в кровавой схватке, чтобы примкнуть к победителям? Или правильнее считать аристократами и элитой кумиров Серебряного века российской словесности, улепетнувших из революционного Петрограда и Москвы на юг России, за спину Добровольческой белой армии, и забивавших там осиновые колы в грудь большевиков на страницах белых газет? Правда, высокую честь сражаться и умирать за Русь православную на фронтах гражданской войны эти кумиры, даже дворянского происхождения и вполне призывного возраста, почему-то предоставляли мальчишкам-юнкерам, девчонкам из женского Батальона смерти, офицерам, и так уже досыта нахлебавшимся лиха за годы Первой мировой войны, гимназистам-идеалистам да безотказным казакам. Но оба аристократа так и не смогли понять друг друга. “Своя своих не познала”. И камнем преткновения, помешавшим им достигнуть консенсуса, послужила все та же частная собственность и ее эффективные собственники, которые тогда, как и ныне, проживали не только и не столько на бескрайних отечественных просторах и в обеих российских столицах, сколько в благословенных Европах, по большей части — во Франции и Бельгии. Красный прадед считал, что их собственность должна стать ничейной. Белый прадед с ним категорически не соглашался, причем личной заинтересованности в этом вопросе у него не было никакой…»
Во всяком случае, Глеб никогда ничего не слышал о наследственных владениях семейства Пановых. В то же время даже идейные вожди красного прадеда не отрицали, что тот кое-какую собственность все же имеет.
— Тебе нечего терять, кроме твоих цепей! — честно предупреждали они прадеда, призывая его идти в бой за отъем частной собственности у ее эффективных российских, бельгийских, французских и так далее (и каждой твари там было значительно больше, чем по паре) собственников.
И красный прадед внял их призыву, пошел штыком и прикладом загонять частную собственность в общественные закрома, но, не в пример нынешним политикам, не приемля двойной морали, он и собственную собственность, то есть цепи, тоже честно сдал в общую ничейную копилку. Так что оба пановских прадеда — и по отцу, и по матери — были не только аристократами, но и идеалистами и даже альтруистами, а потому воевали друг с другом особенно ожесточенно. Они стреляли из винтовок и пулеметов, палили из пушек и пырялись штыками до тех пор, пока красный прадед не спихнул будущего родственника в Черное море, и тот вместе с прабабушкой отбыл в эмиграцию, потеряв в суматохе бегства малолетнего тогда дедушку, которого приютила дальняя родственница Пановых — троюродная пратетушка, седьмая вода на киселе.
Спустя какое-то время, а точнее, когда Франция признала наконец Советскую Россию и установила с ней дипломатические отношения, к этой доброй женщине, заменившей маленькому еще пановскому дедушке и мать, и отца, растворившихся в неведомой эмиграционной мгле, пришел какой-то очень пожилой месье аристократического вида. Месье представился ей французским родственником и назвал свою фамилию, какую именно, пратетушка не запомнила. Она точно не была «Панов», но звучала похоже, хотя и на франко-итальянский лад. Представительный иностранец объяснил, что их общий знатный предок, возможно, даже князь, по фамилии Панов в незапамятные еще времена по стечению непреодолимых трагических обстоятельств вынужден был покинуть пределы России и обосновался в южной Франции, вблизи от границы с Италией. Офранцузившись и обитальянившись, наш беглый соотечественник принял активное участие во франко-испанской войне, а также во всех прочих войнах, которые то и дело затевали окрестные монархи по большей части на предмет того, чтобы жителям тамошних благодатных мест жизнь не казалась медом. Он отличился во многих сражениях и был принят в лоно французской аристократии под именем виконта Лапани-Депини. Приблизительно так, с поправкой на пратетушкин склероз, звучал его титул, по словам французского родственника. Но французский виконт чтил свои русские корни и завещал своим детям любить Россию и изучать великий и могучий русский язык. Из поколения в поколение завет пращура его потомками свято выполнялся. Россию они любили, но вот со знанием русского языка с каждой новой сменой поколения дела обстояли все хуже и хуже. Действительно, французский гость говорил по-русски примерно так, как в будущем заговорит российский школьник с заветной и единственной целью сдать ЕГЭ, на «отлично» изучавший одиннадцать лет родную литературу и прочие гуманитарные предметы. То есть гость экал, мэкал и не мог толком связать даже двух слов. К тому же пратетушка была глуховата, да вдобавок она еще не столько слушала косноязычного (по уважительной причине) аристократического французского родственника, сколько мелко дрожала всеми конечностями и прислушивалась, не пришли ли уже агенты ГПУ-НКВД, чтобы арестовать ее как резидентку французской спецслужбы «Сюртэ Женераль». Единственное, что она расслышала и запомнила: у престарелого аристократа был сын по имени, кажется, Глобус, последний и единственный продолжатель знатного рода виконтов Лапани-Депини. Глобус, не посрамив своих доблестных рыцарственных предков, добровольцем пошел на фронт Первой мировой войны, где и пал смертью храбрых, не успев жениться и, соответственно, оставить потомков. Престарелый месье был в отчаянии: они с женой по возрасту уже не могли надеяться на рождение другого ребенка, и знатнейший род мог прерваться.
Но как-то, совершенно случайно, месье Лапани-Депини познакомился с супружеской четой российских эмигрантов и после досконального изучения их родословного древа установил, что Пановы — российские потомки основателя славного рода виконтов Лапани-Депини. Месье Лапани усыновил-удочерил российскую родню и объявил их наследниками и продолжателями своего древнего рода, надеясь, что они родят ему внука и назовут этого внука Глобусом в честь геройски погибшего сына виконта. Увы, прадедушка Глеба во время Гражданской войны сражался за интересы эффективных французских акционеров, собственников российских заводов, газет и пароходов буквально не на живот, а на смерть, то есть в боях не щадил живота своего ни в переносном, ни в самом прямом смысле. Прабабушка всю войну прошла с ним плечо к плечу, перевязывая горячие раны его, да еще переболела возвратным тифом и испанкой. Последствия такого самоотвержения не замедлили сказаться — и приемный сын, и приемная дочь виконта вскоре скончались, не успев родить ему нового Глобуса. От полного отчаяния месье Лапани спасала только надежда, что он сможет найти оставшегося в России сына его покойных приемных детей. Увы, его имя было не Глобус, а Федор. Как только представилась такая возможность, виконт приехал в Россию, нашел своего приемного внука и поведал его престарелой троюродной тетушке свою последнюю (с учетом еще более почтенного, чем тетушкин, возраста) волю. Уж если крещеного по православному обряду Федора перекрещивать будет некорректно, то своего сына, когда тот родится, Федор обязательно должен назвать Глобусом. Этот новорожденный Глобус и станет продолжателем славного аристократического рода виконтов Лапини-Депини.
Впрочем, до светлого дня Глобусова рождения нужно было еще дожить, так как сам Глебов дедушка Федор пребывал тогда в достаточно еще юном возрасте и мирно спал в своей кроватке, ни сном ни духом не ведая, что его приемный дед проливает над ним слезы умиления. Тетушку же от страха уже трясло так, что в окнах их бедной квартирки дребезжали стекла, а чашки в серванте самопроизвольно двигались, как при землетрясении. Напрасно месье Депини уверял перепуганную старушку, что он не имеет никакого отношения к «Сюртэ Женераль» и не собирается вербовать ее в секретные агенты французской разведки. Поняв тщетность своих усилий, огорченный старый аристократ покинул тетушкину квартиру, Советскую Россию, а вскоре и этот мир юдоли и скорби. О его таинственном визите тетушка рассказала подросшему Федору лишь перед самой своей кончиной, предварительно заставив воспитанника поклясться перед иконой святого великомученика Себастьяна, расстрелянного древнеримскими лучниками за его христианские убеждения, что он ни в коем случае не назовет своего будущего сына Глобусом, ибо это может быть расценено всевидящим ГПУ-НКВД как согласие работать на «Сюртэ Женераль»! Федор не очень поверил тетушкиному рассказу, так как его любимая родственница к тому времени от старости уже начала заговариваться и частенько, мягко выражаясь, фантазировала и рассказывала совсем несообразные истории о якобы посещавших ее известных лицах.
Ознакомительная версия.