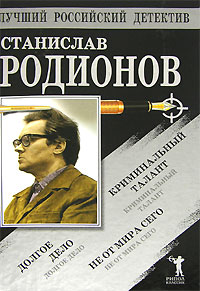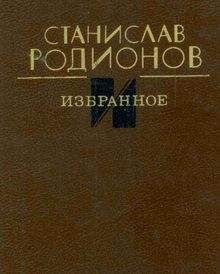ухода он достал из папки листок с «аномалиями». Но писать было нечего. Шурочка добавила что–то к личности Виленской, но не сообщила никакой информации о главном — о мотивах ее поступка.
Рябинин вспомнил последнее самоубийство, которое он вел лет пять назад: спившийся тунеядец решил пугнуть жену, не давшую денег на водку. И пугнул, повиснув на кухне. В кармане нашли записку с двумя словами: «Миша, отомсти!» Рябинин долго искал этого Мишу. Им оказался трехлетний сын.
Самоубийство Виленской было другим.
Вошла молодая изящная женщина в белом халате, светлая и легкая. Рябинин сразу понял, что это Миронова. Он никогда не разглядывал человека откровенно, но тут не удержался: Миронова была подругой Виленской, а друзья если и не схожи, то какой–то гранью все–таки подобны.
Миронова поправила челку, извинилась за халат и огорошила:
— Вы думаете, мне что–нибудь известно?
— Надеюсь.
— Я ничегошеньки не знаю, — грустно сказала она и сочувственно посмотрела из–под своей пушистой челки.
— Вы же подруги, — заметил Рябинин.
— О ней знаю все, кроме…
— Тогда расскажите это все.
Она положила руку на стол, свободно вытянув ее вдоль края. Рябинин задержал взгляд на узкой кисти и тонких длинных пальцах с колкими ногтями, собранными в горсть, — рука казалась острой. Миронова молчала. Рябинин быстро глянул в лицо: она боялась, что следователь не поймет.
— Постараюсь уловить, — усмехнулся он.
Она улыбнулась чуть смущенно и начала рассказывать не спеша, подбирая слова:
— Если бы я была художником… и рисовала бы Риту… то изобразила бы ее с ореолом вокруг головы… Знаете, как святую на иконе.
Рябинин чуть не кашлянул, но вовремя подавил этот импульс, который бы сразу нарушил контакт.
— Ее можно описать одним словом — светящаяся.
Миронова пытливо вглядывалась в его лицо — понимает ли? Рябинин сидел бесстрастно, не очень понимая, что она имеет в виду.
— Многие считали ее старомодной. Она читала классику, любила вальс, ни разу в жизни не была на хоккее или футболе. Рита всему на свете предпочла бы хорошую книгу. Не подумайте, что она была какой–нибудь вялой куклой. Рита увлекалась, да еще как! Если ее интересовала тема, она буквально проваливалась в работу. Не ела, дома не бывала, худела, как схимник. И так, пока не сделает работу, по крайней мере ее творческую часть…
— А людьми? — спросил Рябинин.
— Что «людьми»? — не сразу поняла Миронова, — Да, людьми… Так же и с людьми. Если понравится человек, то душу отдаст. Ругаться, ненавидеть не умела. Все прощала, кроме грубости. Даже не хамства, а просто нетактичности, жесткого тона. Тогда у нее портилось настроение на день. Я вот говорю, а образ у вас, наверное, не складывается…
— Почему ж не складывается?
— Трудно. Это как книжный герой — каждый его видит по–своему.
— Вы хорошо рассказываете, — заметил Рябинин.
— Знаете, что она любила? Лес. Нет, не грибной, не мариновку–засолку. Лес, о, лес для нее был религиозный культ. Ходила всегда одна, а возвращалась радостная, словно что–то узнала, чего никто не знал.
Рябинин немного помялся и осторожно задал вопрос, который давно томился в голове:
— Скажите, вот ей было двадцать девять лет… уже какой–то возраст…
— Да, — перебила Миронова, — я ее знала с первого курса и всегда боялась, что она влюбится.
— Почему?
— Знаете, что такое любовь для женщины?
— Больше знаю, что такое любовь для мужчины.
— О, для женщины это больше. А для Риты, с ее натурой… Она бы так увлеклась, что пропала бы…
— Почему же пропала? — усомнился Рябинин. — Люди мечтают о любви…
— С Ритиным характером… Да она бы превратилась в рабыню, потеряла бы личность, сгорела бы… Человек крайностей…
— Вы считаете, что она влюбилась?
— Вряд ли, — задумчиво сказала Миронова, перебирая что–то в памяти. — Зимой у нее был отличный тонус, ее все время одолевал телячий восторг. А весной стала вялой, бескостной. Понимаете, она зимой вечерами домой–то не ходила — все работала. А у нас в отделе влюбиться не в кого. И мужчин нет.
— Неужели бы она от вас скрыла? — усомнился Рябинин.
— Нет. Рита порывалась сказать, но что–то ей мешало. А потом, весной, ушла в себя. А уж потом… не успела.
Миронова полезла за платком. Она отвернулась, и Рябинин не мешал. Он думал, возможно ли любить тайно от родных, друзей и сослуживцев? Но ведь истинная любовь и есть тайная любовь. Он относился подозрительно к громкой и нескромной любви, которая выказывалась на весь мир. Тайно любить можно, но нельзя любить незамеченно. Впрочем, состояние Виленской заметили сразу. Но как любить, не выходя с работы? Кого?
— Рабочий конфликт вы исключаете? — спросил он, дождавшись, когда Миронова спрячет платок и повернется к нему.
— Да, — сразу сказала она. — Это исключено.
— А что вы скажете о Самсоненко?
Миронова пожала плечами и напрягла губы. Она не хотела говорить о своей начальнице. Он не настаивал. Не так–то просто выложить официальному лицу свое отношение к руководителю, тем более что самоубийства это вроде бы не касалось.
Сотрудницы лаборатории смерть Виленской с Самсоненко не связывали. Получалось, что с сигаретным пеплом он ошибся, поддавшись своей неприязни к такому типу людей.
— Больше ничего не добавите?
Миронова опять пожала плечами и вдруг как–то испытующе глянула на него еще стеклянными от слез глазами:
— Вы должны знать больше меня.
— Это почему же? — удивился он. — Вы дружили и то не знаете.
— У вас дневник.
— Какой дневник?
— Рита вела дневник, но никому не показывала. Ее мама говорит, что дома дневника нет. Мы решили, что вы изъяли.
— Нет, не изымал, — задумчиво произнес Рябинин, и теперь его мысль сразу бросилась по новому руслу.
Вела дневник… В нем, разумеется, есть все. Люди и заводят дневники, чтобы писать в них то, о чем нельзя говорить. Но куда она его дела? В лаборатории он нашел горстку пепла — это сгорел листок–два, не тетрадь. Да и зачем нести его на работу… Дома она ничего не сжигала — пепел или запах они бы обнаружили. Но дома дневника не было. Вот и мать не нашла.
— Подпишите, пожалуйста.
Рябинин спрятал в папку протокол допроса Мироновой и, глянув на ее сбившуюся челку, покрасневшие глаза и дрожавший кончик носа, глуповато спросил:
— Вы… переживаете?
— Я любила ее.
Ответила неслышно — словно упал осенний лист.
После ухода свидетельницы Рябинин стал ходить по своему маломерному кабинету. Он даже не анализировал показания Мироновой — думал о дневнике.
Разумеется, скрытный и замкнутый человек, да еще такой ранимый, как Виленская, постарается дневник уничтожить. Она не пускала