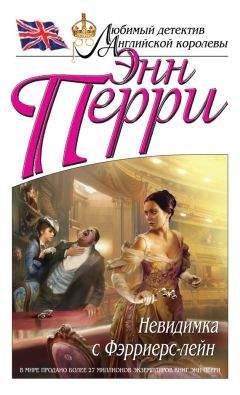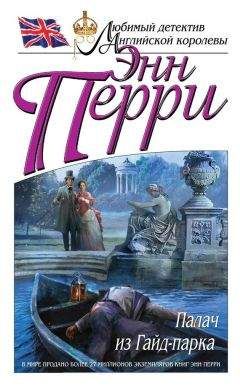Истлевшим Цезарем от стужи Заделывают дом снаружи. Пред кем весь мир лежал в пыли, Торчит затычкою в щели. Но тише! Станем дальше! Вон король.
Из-за кулис на сцену медленно вышла скорбная процессия в роскошных темных нарядах. За священниками несли гроб с Офелией, а дальше следовали ее брат, король и Сесиль Антрим в роли прекрасной Гертруды. Потрясающе, как ей только удавалось притягивать к себе все взоры, даже когда ее роль в сцене не являлась главной! Ее лицо озарялось светом и силой внутренних чувств, которые невозможно было оставить без внимания.
Трагическое действие разворачивалось дальше, и ни Питт, ни Телман не шелохнулись, пока оно не закончилось. После этого Томас выступил вперед, а его помощник все еще не мог двинуться с места. На пятнадцать минут он перенесся в новый мир, начисто выбивший из него старый. Стоячие воды тревоживших его предрассудков вздыбились волнами, способными смыть их из его души, и он уже предчувствовал обновление.
Пройдя по сцене, Питт приблизился к Сесиль Антрим.
– Извините, что я прерываю вас, но мне необходимо обсудить с вами неотложное дело.
– Побойтесь бога, приятель! – в ярости вскричал Беллмейн срывающимся от напряжения голосом. – Вы что, бесчувственный чурбан?! Нам занавес поднимать через два дня! Любые ваши неотложные дела могут подождать!
Суперинтендант остался вполне спокойным.
– Увы, мистер Беллмейн, ждать они не могут. Я не отниму у мисс Антрим много времени и освобожу ее еще быстрее, если вы позволите мне сразу перейти к делу, не тратя времени на пустые препирательства.
Руководитель труппы пространно и красочно выругался, ни разу не повторившись, но, одновременно, сдавая позиции, махнул руками в сторону гримерных, предлагая полицейским с актрисой удалиться туда и хотя бы не мешать остальным. Завороженный Телман стоял как вкопанный в ожидании следующей сцены.
Гримуборная Сесиль Антрим заполнилась вешалками с бархатными и украшенными вышивкой атласными платьями. Запасной парик увенчивал болванку на длинном столе под зеркалом, беспорядочно заполненным флакончиками, щетками, разнообразными сосудами и баночками с пудрой и румянами.
– Итак? – спросила она, усмехнувшись. – Ради какого же срочного дела вы посмели бросить вызов Антону Беллмейну? Я сгораю от любопытства. Даже живая зрительская аудитория не удержала бы меня от того, чтобы удалиться с вами и все выяснить. Уверяю вас, я по-прежнему не знаю, кто и почему убил бедного Делберта Кэткарта.
– Как и я, мисс Антрим, – ответил Томас, запустив руки в карманы пальто. – Однако я знаю, что кем бы ни был убийца, он видел одну вашу оригинальную фотографию, недоступную большинству людей, и уверен также, что она имела для него чертовски большое значение.
Артистка выглядела заинтригованной, а приятно удивленная улыбка на ее лице не позволила полицейскому предположить, что она имеет хоть малейшее представление о том, что именно он собирается показать ей. Ее ясные, небесно-голубые глаза так и лучились насмешливой радостью.
– Моих фотографий существует великое множество, суперинтендант. Карьера моя в театре началась так давно, что мне даже не хотелось бы признаваться во всех прошедших годах. И вряд ли я могу вспомнить всех тех, кто их видел. – Она не сказала, что ее незваный гость наивен, но тон ее голоса вполне выразительно намекнул на это, учитывая, что ему удалось развлечь ее.
Томасу совсем не нравилось то, что он должен был сейчас предъявить ей. Он вытащил из кармана открытку с карикатурной пародией на Офелию и показал ей.
– Милостивый боже! – Глаза женщины округлились. – Где вы раздобыли ее? – Она взглянула на Питта. – Да, вы совершенно правы… это одна из работ Делберта. Но вы же не хотите сказать, что его убили из-за нее?! Это абсурдно. Вероятно, их можно купить в полудюжине лавочек, открытых в лондонских закоулках. Я, безусловно, рассчитываю на их популярность. И очень расстроилась бы, если б зря страдала. Знаете, как противно было лежать в этом мокром бархатном платье, да еще в ужасно холодной воде!
Ее слова ошеломили Томаса. На какой-то момент он даже онемел, не зная, что и сказать.
– Но ведь она поражает воображение, не правда ли? – добавила Сесиль.
– По-ра-жа-ет, – повторил полицейский по слогам, словно ему пришлось говорить на незнакомом языке.
Он недоумевающе смотрел на оживленное лицо актрисы с красиво очерченными губами и удивительно привлекательными чертами.
– Да, мисс Антрим, мне еще не приходилось видеть более поразительных открыток.
Женщина уловила возмущение в его голосе.
– Вы ее не одобряете, суперинтендант… Возможно, вы даже правы. Но, по крайней мере, вы запомните ее, и она заставит вас задуматься. Образ, не затрагивающий чувств, вероятно, не в силах также ничего изменить.
– Изменить? – хрипловато произнес Томас. – Что изменить, мисс Антрим?
Сесиль пристально взглянула на него.
– Изменить привычный застойный ход мысли, суперинтендант. Что же еще достойно изменения? – Лицо ее исполнилось отвращения. – Если б лорд-камергер не запретил ту пьесу, что вы сами видели, то Фредди Уорринер, возможно, не утратил бы смелость и мы могли бы продвинуть законопроект о более справедливых законах о разводе. На сей раз мы потерпели поражение, но, возможно, нас услышат со второй или с третьей попытки. А начинать приходится с пробуждения чувств в равнодушных людях!
Полицейский глубоко вздохнул, чтобы выплеснуть дюжину возмущенных протестов, но заметил улыбку собеседницы и вдруг понял, что она имела в виду.
– Если вам удастся изменить мышление, то вы сможете изменить мир, – мягко добавила актриса.
Сжав кулаки, Томас поглубже засунул руки в карманы.
– И какие же мысли, мисс Антрим, вам хотелось изменить этой фотографией?
Казалось, его вопрос позабавил Сесиль. Он заметил озорной блеск в ее глазах.
– Мысль о том, что женщины согласны на пассивную роль в любви, – уверенно ответила она. – Мы скованы людскими представлениями о том, какова наша судьба, каковы наши чувства, что приносит нам радость… или страдания. Мы сами позволили этому случиться. Одному богу известно, как досадно быть скованной цепями своих же собственных представлений. Но быть насильно скованной цепями просто чудовищно!
Вдохновение озарило ее лицо, и оно обрело какую-то сияющую внутреннюю красоту, словно в грядущей дали, за этим физически неприятным образом на бумаге, Сесиль видела желанную духовную свободу – не столько для себя, сколько для других. Она задумала свой собственный своеобразный крестовый поход и с готовностью и безрассудной отвагой сражалась за свои убеждения.
– Неужели вы не понимаете? – пылко воскликнула артистка, огорченная его молчанием. – Никто не имеет права решать, что должны желать или чувствовать другие люди! А мы именно так и живем, поскольку вынуждены делать то, что нам навязывают.
Она стояла совсем близко к Томасу. Он чувствовал исходящее от нее тепло и заметил даже легкую дряблость кожи на ее щеках.
– Нам так удобнее, вот мы и питаемся старыми предубеждениями, старыми и привычными представлениями, – ожесточенно продолжила женщина. – Как же иначе мы можем наслаждаться жизнью, если не придем к выводу, что это именно то, что нам нужно? И людям следует быть благодарными нам. Ведь все делается ради их же блага! Ради персонального благополучия. Во имя утверждения справедливого или естественного порядка… или, в общем, ради того, чего хочет Бог! Какое монументальное высокомерие позволяет нам дерзко решать, что желания Всемогущего Господа совпадают с нашими удобствами? Увы, нам приходится послушно следовать этим приписанным Богу желаниям.
– И эти фотографии могут устранить все недоумения? – спросил Питт с легчайшим оттенком сарказма, хотя и даже это далось ему с трудом. – Некоторые из них, на мой взгляд, оскорбляют Бога.
– На ваш взгляд? – Изумительные глаза Сесиль расширились. – Мой дорогой, задавленный прозой жизни суперинтендант… Вы оскорбились за Бога! В чем же, по-вашему, заключается богохульство?
Питт еще сильнее сжал кулаки в глубине карманов и расправил плечи. Он не мог позволить ей запугать его только потому, что она красива, чертовски красноречива и уверена в себе.
– По-моему, оно заключается в глумлении над верованиями других людей, – спокойно ответил он, – в пробуждении сомнений в силе добра и провоцировании почитания смехотворных и постыдных образов. Причем не имеет значения, какого Бога вы оскорбляете. Доктрины тут ни при чем; важна попытка уничтожения той внутренней идеи, которую мы обожествляем, или того лучшего и святого, что хранится в наших душах.
– О… суперинтендант, – восхищенно вздохнула Антрим. – По-моему, меня только что поставил в тупик полицейский. Пожалуйста, не говорите никому… я не смогу с этим жить. Извините. Увы, это именно богохульство… но я ненамеренно совершила его. Мне хотелось лишь заставить людей усомниться в стереотипах и вновь увидеть в каждом из нас живую личность, со своим характером и стремлениями, чтобы никто не мог больше заявить: «Вот, она женщина, поэтому и чувствует то… или это… а если не чувствует, то должна чувствовать». Или что раз он священник, то должен быть благостен во всех речах и не может иметь никаких слабостей или той страсти… что считается порочной. – Она взглянула на собеседника еще сильнее распахнутыми глазами. – Вы понимаете меня?