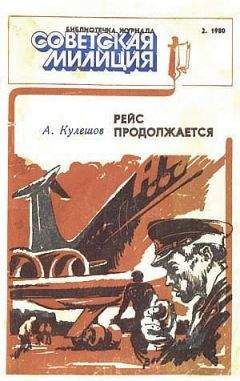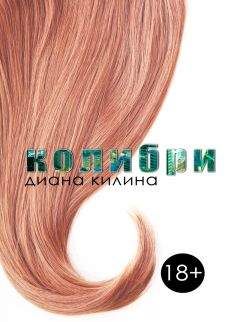Бросаю взгляд на моих подопечных. И настораживаюсь. Они чем-то явно обеспокоены. Сгрудились вокруг советской стюардессы постарше, видимо, о чем-то ее расспрашивают, советуются.
Я уже собрался было подойти прислушаться, как мой сосед, какой-то толстенький веселый человек спрашивает меня:
— В Москве бывали?
— Нет, — говорю.
— Я-то бывал. Замечательный город! Очень интересный. Советую побывать.
— Спасибо за совет, — ворчу.
— Ну, ничего, хоть снаружи увидите, по улицам проедете за те же деньги. Повезло. Если, конечно, не торопитесь.
Видя, что я не понимаю, охотно объясняет (есть, знаете, такие люди, которые обожают всем все объяснять или первыми сообщать всякие новости, особенно неприятные).
— Повреждение у нашего самолета. Не видели? С правым шасси что-то случилось. Исправлять будут. Так что рейс переносится на завтра. Сейчас отвезут в отель. Да вы не беспокойтесь — отель великолепный — «Аэрофлот», я в нем однажды ночевал. Покормят прекрасно. Все будет о'кей. Но из отеля не выпустят, уж такой порядок — мы ведь транзитники. Я вам советую…
Он еще что-то болтает, но я не слушаю.
Вот так номер! Застряли. Но в Токио-то нас — моих подопечных и меня — ждут именно с этим рейсом. Как же теперь? Все ломается! Понятно, почему они так заволновались — у них там, наверное, все обговорено — кто встречает, как пройти таможню с их набитыми деньгами чемоданами, куда ехать. И вдруг такое дело…
Смотрю в их сторону. Что за черт! Повеселели, благодарят за что-то немолодую стюардессу, передают ей билеты, деньги.
Эге-ге! Я устремляюсь туда же. И когда мои подопечные отходят к бару, о чем-то радостно болтая, а стюардесса уходит к какой-то двери, я догоняю ее и спрашиваю по-английски (по-английски какая стюардесса не говорит?):
— Простите, мои друзья, — киваю в сторону четверки, — сказали, что вы сможете мне помочь. Они говорят, вы очень любезны. (Весь в напряжении — угадал или попал пальцем в небо). Я выдаю ей мою обольстительную улыбку № 1, которую трачу лишь в исключительных случаях.
— Пожалуйста, — отвечает она, — вам на тот же рейс? Места еще есть.
Она сообщает время вылета советского самолета по маршруту Москва — Токио (через сорок минут), сумму доплаты, забирает мой билет, деньги и исчезает.
Я вытираю пот со лба. Ну-ну!
Еще бы немного и Мегрэ-Леруа спокойно дрых в отеле «Аэрофлот» или приставал к очередной горничной, а мои подопечные благополучно летели на советском лайнере в Токио, где по прибытии растворились бы в пространстве.
Ну и дела.
Не проходит и двадцати минут, как появляется моя спасительница, вручает мне новый красивый зеленый билет с красным флагом на обложке, сдачу, которую я пытаюсь ей всучить и от которой она возмущенно отказывается.
В это время, словно сговорившись, из разных дверей появляются две стюардессы.
Одна забирает пассажиров нашего рейса и ведет их к автобусу, на котором они поедут в отель. Другая приглашает мою четверку и меня за собой.
Подопечные смотрят на меня сначала изумленно, потом подозрительно, о чем-то шепчутся. И вдруг к нашей теперь уже пятерке присоединяется еще один летевший с нами, такой средних лет, поджарый, с энергичным лицом. Он в последний момент, видимо, тоже перерегистрировал билет. Спешит.
Уж лучше бы он не спешил…
Мы покидаем транзитный зал, садимся в желтый автобус, подъезжаем к самолету. Нам предъявляют наши чемоданы, выгруженные из «Боинга». Четверка испускает вздох облегчения. Мне наплевать — мой чемодан пустой.
Нас торопят. Мы поднимаемся в ИЛ-62. Красивейший, длиннющий самолет.
Нам указывают места — у русских они нумерованы. Четверка оказывается в первых рядах — у них ведь билеты первого класса. Мы с этим сухарем тоже недалеко, ряду в десятом.
Захлопываются двери, зажигаются табло, стюардессы, такие же хорошенькие и длинноногие, как наши, идут вдоль рядов, разносят конфеты, следят, чтобы все застегнули ремни.
Взвывают двигатели. Самолет долго едет по аэродрому, затем замирает, как бегун на старте, и, стремительно набирая скорость, мчится по взлетной полосе.
Мы в воздухе.
Я впервые лечу на ИЛ-62. Хороший самолет. Летит, не спотыкается. Легкость какая-то у него в полете. Отделка внутри у «Боинга», конечно, лучше, зато здесь кормежка — будь здоров! Даже икра!
Смотрю, мой «боксер» выбирается из своего первого класса и тоже начинает прогуливаться.
И поглядывает на меня и на «сухаря». Вообще-то ничего удивительного в этом нет — мы единственные, кто летел с ними в поломавшемся самолете. Но мне это все-таки не нравится. Очень мне не нравится, как он смотрит на меня.
Я решаю заговорить с «сухарем».
— Повезло нам, — говорю, — летим вот, а другие пассажиры нашего рейса в Москве застряли.
— Да, — говорит, — повезло. Не знаю, как вам, но мне опаздывать никак нельзя. Никак.
— Простите, — спрашиваю, — если не секрет, вы, наверное, бизнесмен? Контракт может уплыть, — улыбаюсь.
— Да нет, какой бизнесмен, я парикмахер. Спешу на международный конкурс. Опоздаю — вылечу из игры. А у меня все шансы. Кроме русских, других конкурентов не вижу.
— Да? — я удивлен. — Парикмахер? А что, русские очень сильны в этом деле?
— Ого-го! Еще как сильны, особенно женщины!
— А что за конкурс? — спрашиваю.
— Как, вы не знаете? — и пошел, и пошел мне рассказывать.
Но я не слушаю. Я с беспокойством слежу за «боксером». Его явно интересует наша беседа с «сухарем». Неужели они догадываются? Впрочем, большого значения это не имеет, поскольку до Токио они не сбегут, а там за ними будут следить японцы, а я исчезну, и подозрения их рассеятся.
Вот так и летим.
Скоро я думаю тоже поспать. Никуда мои подопечные не денутся…
Когда везешь опиум, героин, любой наркотик, каждый грамм которого, в случае если его обнаружат, обойдется тебе в год тюрьмы, а войдя в тюрьму молодой, красивой, полной сил, как я сейчас, выйдешь из нее (если выйдешь) дряхлой, больной старухой, то есть лишь одно средство не реветь, не выть волком, не выпрыгивать на ходу из самолета — думать о другом.
Вы спросите: «Дорогая Белинда, как это можно в такие минуты думать о другом?».
Оказывается, можно. Это приходит не сразу, постепенно, с годами. Как все, как равнодушие, как жестокость, как безразличие к чужой жизни и судьбе, как стремление жить лишь сегодняшним днем, да что там днем — минутой.
От вас не буду скрывать — вы ведь не судьи, не прокуроры — на моей совести есть убийство. Вы думаете, это мешает мне спать? Убитый приходит ко мне по ночам? Я испытываю угрызения совести? Да нет, я о нем и не думаю…
Страх, да! Страх я испытываю всегда, везде — оттого и стала сама покалываться. Нажмешь шприц, и на какое-то время страх уходит.
Да, знаю, знаю! Что вы меня предостерегаете? Сама знаю, чем кончу. Достаточно посмотреть на других, на всех этих самоубийц, которые растягивают самоубийство на годы. Да, я тоже такая. Ну и что? Что прикажете делать?
Голод. Вот если вы испытываете голод, что вы делаете? Садитесь за стол, и весь сказ. Голод проходит.
Так и я — страх, как голод, он где-то внутри, он гложет меня, его надо прогнать, излечиться от него. А чем? Только вколоть дозу…
Вы можете сказать, что хороший бифштекс здоровья не нарушает, а доза… Правильно, я ведь не спорю. Но я-то испытываю не голод, а страх. Эх, да разве вы знаете, что это такое!
Вы можете сказать, что есть другой метод лечения: перестать возить контрабанду, расстаться с этим кошмарным делом, жить, как другие, честно…
Но вы же наивны, вы ничего не понимаете. Ничегошеньки! Жить честно! Как? Как может в моей стране жить честно такая женщина, как я? Иметь машину, домик, виллу у моря, кое-какие драгоценности, кое-что, чтобы надеть на себя. Такая женщина, как я, — одинокая, без наследства богатых родителей, без солидного мужа, без приличной специальности (да и она не гарантия)…
Она может жить так, как я, если у нее не будет предрассудков, угрызений совести, колебаний. Зато будет железное, ни перед чем не останавливающееся желание так вот жить. И ради этого идти на все.
Я смотрела однажды фильм. Там к старику пришел черт и предложил ему молодость, богатство, всякие радости, зато после смерти старик попадет в ад и будет гореть в вечном огне. Вот и у меня так. Только вечный огонь начался у меня еще при жизни, на земле.
А черт-соблазнитель — это Рокко.
Господи, зачем только я его встретила!..
Я расскажу вам немного о себе, и вы поймете.
Я родилась лет двадцать пять тому назад. Удивлены? Как, мол, это «лет двадцать пять», что я точно не знаю своего возраста? Не знаю, представьте себе!
Я не только этого не знаю. Я даже не знаю, у кого и от кого родилась, и где, и как меня назвали! Что, шокированы? Да? Вам, благополучным и порядочным, такое и в голову не придет? Ну, и ладно. Плевать мне на вас! Зато вы не были в Сингапуре и Рио, на Гаваях и Мадагаскаре, не жили в «Хилтонах» и «Шератонах», у вас не было стольких любовников и денег. Да, конечно, у меня не было матери, нет мужа, нет детей, нет покоя, а скоро и не будет здоровья, у меня нет надежды прожить до пятидесяти, да, наверное, и до тридцати, и нет уверенности, что я завтра еще буду на свободе.