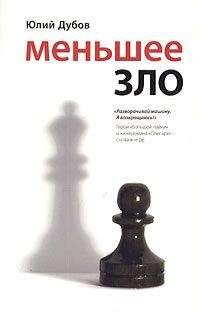— Почему после? Почему не до? Куда мы там будем разворачиваться?
— Я просто плохо сказал. Начинать подготовку. Тусовать местное начальство. Теперь понимаешь?
— Интересно… Очень интересно…
— Интересно? Это просто класс!! Мне даже не верится… В себя придти не могу… У меня такое ощущение — странное какое-то… Знаешь… Я просто… — Платон взлохматил волосы, и на лице его появилась блуждающая улыбка: — Я просто, наверное, счастлив. Да! Я счастлив!
— Это хорошо. Знаешь что? Я всё-таки слетаю на денёк, потом сразу займёмся. Как ты?
— Давай! — Платон схватился за запотевший графин. — Выпьем по рюмке — и лети.
— Погоди-ка, — сказал Ларри, когда они выпили по рюмке за победу. — Подозрительна мне всё-таки эта история. Почему ты сказал, что это они его решили выставить? Не ты ли подсказал?
— Ты что! — запротестовал Платон, но чуть горячее, чем требовалось.
Ларри посмотрел вопросительно. О том, что принимаемые решения должны хотя бы обсуждаться, говорено было раз сто и всё без толку. Он подумал и решил сменить тему.
— А ты ведь, наверное, ему уже позвонил? В клуб пригласил поужинать, посидеть?
— Кому?
— Федору Фёдоровичу.
— С ума сошёл? Знаешь, как его сейчас пасут? Ему только моего звонка не хватало…
— Молодец. Тут по-другому надо. Мне сейчас в голову пришло… Ты не в курсе насчёт его семейного положения?
— Чьего?
— Федора Фёдоровича.
— Нет. А почему спрашиваешь?
— Он пока ещё у нас был, крутил с Ленкой. Вроде бы по серьёзному. Я их даже один раз практически застукал. А потом, когда он с нами расплевался, она тоже уволилась. И что-то я припоминаю — вроде мне охрана говорила, что когда она заявление принесла, они его машину видели. Если она его захомутала, очень даже может интересно получиться…
— Вполне могла окрутить, — согласился Платон. — Она девочка активная.
— Это тебе виднее. Скажи Марии — пусть наведёт мостик, только поаккуратнее.
В самолёте Ларри вспомнил, что вопрос, кому отдали Центр, так и остался без ответа. Ну да ладно. Потом выясним.
«Таков порок, присущий нашей природе: вещи невидимые, скрытые и непознанные порождают в нас и большую веру, и сильнейший страх».
Юлий Цезарь
Дурацкий сон неожиданно приснился Платону в самолёте, по дороге на Северный Кавказ, где ему надлежало проторить дорогу будущему президенту России. Вообще ему сны редко снились. Что такое сны, он не понимал. Того, что не понимал, он не любил и даже побаивался. И если кто-нибудь пытался поделиться с ним увиденным ночью, Платон мог среагировать странно.
Как-то ещё не расстрелянный Петька Кирсанов, ударившийся в православие, позвонил Платону во время Великого Поста и пожаловался:
— Представляешь, Тоша, вот пощусь, так каждую ночь свиные рёбрышки снятся.
— Это у тебя, Петька, возрастное, — пакостно произнёс раздражённый Платон. — Я слышал, что молодым обычно женские ножки видятся.
Кирсанов обиделся и бросил трубку.
А вот теперь Платону приснилась совершеннейшая глупость. Вроде бы про хоккей, хотя и не совсем. Глупость эта была совсем идиотской, потому что хоккей Платон терпеть не мог, предпочитая футбол.
Стадион не походил ни на какие другие стадионы — круглый и всего с одними воротами, мимо которых с головокружительной скоростью проносились игроки в разноцветных клоунских костюмах, красных с белым и жёлтых с голубым. Роль шайбы исполнял огромный зелёный шар, время от времени взлетавший вверх и медленно опускавшийся. Когда шар неудачно задевали клюшкой и он начинал перемещаться за пределы поля, его перехватывал один из четырёх перламутровых с черным Арлекинов и мощным ударом отправлял обратно.
Такой же перламутрово-чёрный лоскутный костюм был и на Платоне. Но по полю Платон не бегал, а стоял на невысоком мраморном кубе в нише, вырубленной в окружавшей лёд гладкой серой стене. Стена была высокой, и трибуны находились, судя по всему, над ней, потому что рёв тысячной толпы доносился сверху. Коньки елозили по мрамору, и, чтобы не упасть, Платону приходилось упираться ладонями в боковые стенки ниши.
Иногда на поле происходила свалка, клоуны падали друг на друга и смешно молотили клюшками воздух. В этом случае Арлекины мгновенно собирались в воротах и терпеливо ждали, когда разноцветные игроки поднимутся на ноги и снова атакуют лениво покачивающийся на льду шар.
Странным было и то, что ни один из игроков не делал попытки направить шар в ворота. Похоже, единственная цель этого непонятного действа состояла в том, чтобы, отобрав шар у соперников, как можно дольше сохранять его при себе.
После особо сильного удара клюшкой шар резко взмыл в воздух и завис недалеко от Платона, на уровне лица. Платон увидел, как повернулись в его сторону клоуны, раззявив в недоумении размалёванные рты, а за их спиной мгновенно сгруппировавшиеся Арлекины метнули в пустые ворота невесть откуда взявшуюся шайбу. Над воротами загорелась лампочка, прозвучала сирена. Трибуны взвыли.
Но тут внимание Платона отвлёк шар, медленно вращавшийся перед глазами и менявший окраску. Шар розовел, желтел, слабое красное свечение изнутри вдруг становилось невыносимо ярким. На поверхности стали проступать изумрудные с черным по краям пятна, потом они вытянулись и принялись закручиваться в скользящие по поверхности шара спирали, из-за чего шар будто бы покрылся радужной плёнкой, потом раздулся и лопнул с мелодичным звоном хрустальной висюльки.
Занятый шаром, Платон не сразу заметил, как ледяное поле с цветными фигурками клоунов начало съёживаться, уменьшаясь в размерах. Мраморный куб превратился в вытягивающуюся вверх колонну. Ниша, в стенки которой можно было упираться руками, исчезла вместе с орущей толпой зрителей и лоскутными силуэтами Арлекинов. Чёрное ночное небо с безжалостно горящими звёздами становилось всё ближе, пронизывающий ветер свистел в ушах.
В космической пустоте Платон стоял на узком мраморном столбе, подножие которого терялось далеко внизу.
Держаться было не за что. Коньки скользили.
«Какого вы мнения о семейной жизни вообще?
Её можно сравнить с молоком…
Но молоко скоро киснет».
Иван Тургенев
Изменения, которые произошли в жизни Ленки, можно было сравнить только с глубинным сдвигом земных пород, вздымающим к небу не существовавшие доселе горные пики.
История начала неспешно раскручиваться в доинфокаровские времена, на ленинградской школе молодых учёных. Тогда, испугавшись непонятной, а потому опасной тяги к Серёжке Терьяну, Ленка в соответствии со старинным рецептом решила вышибить клин клином.
Это было тем более легко, потому что он, другой клин, был рядышком, в сером костюмчике гэдээровского производства, молчаливо сидел напротив за банкетным столом и поглядывал на пьянеющего на глазах Терьяна с сочувствием и пониманием. Когда заиграла музыка, увёл Ленку из-за стола под песню про надежду, земной компас, потом покружил в танго, а когда запел Хампердинк, всё уже было понятно.
— Пойдём, — сказала Ленка, нервничая из-за того, что напившийся Серёжка может устроить безобразную сцену. — Уведи меня. Пойдём к тебе. Только прямо сейчас.
— Лучше не вместе, — осторожно ответил серокостюмный партнёр. — Вот ключ от моего номера. А я буду минут через десять.
Ленке бросилась в глаза стерильная чистота люкса. Ровным счётом ничто не говорило о том, что здесь десять дней кто-то живёт, — после весёлого бардака в оргкомитетском номере, с постоянно сохнущими в ванной простынями, пустыми бутылками и полными пепельницами, после Сережкиной комнаты с разбросанными повсюду рубашками, носками, спичечными коробками и пачками «Дымка» Ленка оказалась в пустынном царстве совершенного и невозмутимого порядка, где не было ни пылинки, ни бумажки, ни единой вмятины или лишней складки на безукоризненно заправленной широкой кровати. Девственно чистый блокнот лежал точно по центру журнального столика рядом с идеально заточенным карандашом. Даже в ванной, куда она заскочила, чтобы хоть слегка привести себя в порядок, отсутствовали малейшие признаки обитаемости — ни зубной щётки, ни бритвы, ни каких-либо иных мужских туалетных принадлежностей.
Может, из-за Серёжки или по каким другим причинам, но в постели новый знакомец скорее удивил, чем порадовал. Любовью он занимался настолько хладнокровно и отстраненно, что у Ленки возникло ощущение, будто он одновременно перемножает несколько многозначных чисел, уделяя основное внимание этому. Стало даже обидно. И появилось дерзкое желание раскрутить холодную лягушку, вырвать хоть что-то похожее на эмоцию.
На это ушло несколько часов, но лягушка оказалась на редкость неподатливой. Каждый раз он с неторопливой методичностью доводил Ленку до финальной судороги, выжидал несколько секунд, переводил дыхание, вставал и уходил в ванную. Шумела вода, потом в ванной гас свет, он возвращался, ложился рядом и вежливо обнимал Ленку за плечо.