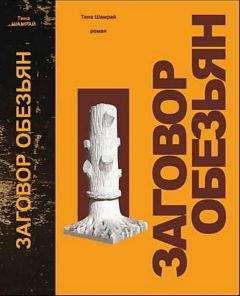— Ну да, ну да, такого знаменитого — и не узнают. Так это очень просто! Вас ведь по фотографиям, а какой вы в жизни, как двигаетесь, как говорите, мало кто знает. А тут ещё уверенность, что ваше исчезновение — это заговор, и поэтому беспризорно гулять вы никак не можете. Понимаете? Ну, так как, поезд или машина?
— Частная машина — это лучший вариант.
— Хорошо, поедем машиной, как-нибудь потихоньку доберемся. Скажите только, вы сами-то можете управлять?
— Да когда-то садился за руль.
— Но в связи с известными обстоятельствами навык, наверное, потеряли. Маленькая загвоздка в том, что машина у меня праворульная. Вы, наверное, никогда на такой и не ездили?
— Нет, не ездил, — признался гость.
— Ну, как-нибудь доберёмся. Доберемся ведь?
Но беглеца волновал не способ передвижения, а совсем другой вопрос, и он требовал определённости. И это нужно выяснить прямо сейчас, что называется, на этом берегу.
— Алексей Иванович, оказывая мне содействие… У вас как у правозащитника могут быть неприятности, — внимательно посмотрел он в глаза Пустошина. Понимает ли человек всю серьёзность ситуации? А тот усмехнулся и, как в каморке-приёмной, перегнулся через стол:
— Вы, наверное, в силу объективных обстоятельств имеете самое общее представление о правозащитниках. Не люблю этого слова — правозащитник! Слишком оно громкое. И те, кто себя так называет, они и есть так называемые правозащитники. А я — ходатай, лишь ходатай по гражданским делам. И мы помогаем любому, если есть основания предполагать, что в отношении индивидуума были нарушены права человека. Понимаете? И даже если вашему обидчику когда-нибудь дадут под зад коленкой… Хотя нет, тут я — пас! До таких степеней человеколюбия я ещё не дошёл, нет, не дошёл, — хмыкнул Алексей Иванович.
— Не забывайте, ваша помощь — это укрывательство преступника. Именно так квалифицирует эти действия Уголовный кодекс.
— Правильно! Статья 316. Заранее не обещанное укрывательство особо тяжких преступлений. Наказывается штрафом или арестом на срок от трех до шести месяцев, а то и лишением свободы на срок до двух лет, — без запинки процитировал Пустошин. — Эту статью любому комитету солдатских матерей можно вменить.
— Но беглый солдат только солдат. А я осуждённый…
— Так ведь у вас есть смягчающие вину обстоятельства. Как я понимаю, ваши действия были продиктованы опасением за свою жизнь, так? Я правильно толкую.
Правильно. Только неприятно, что Пустошин вычленил из его записки только один мотив побега — страх. Всё так, но когда это понимает другой человек!
— И потом, наверное, даже из-за решётки должно быть видно, что в стране идет война! Захватили средство управления массами — телевидение, теперь заводы, фабрики, землю! Для этого и вооружённые отряды мечутся по стране… Слыхали ведь, как сюда спецчасти перебрасывали для усмирения народа. Чем не война? А где война, там и пленные, и один из них — это вы! Ну, и как не помочь бежавшему из плена?
«Смелые у вас обобщения, Алексей Иванович!» — собрался возразить бежавший из плена, но остановился. Забавно, но и на сленге вертухаев заключённые действительно — пленные…
А Пустошин, заметив кривоватую усмешку на лице гостя, нашёл её снисходительной и высокомерной.
— Должен заметить, дорогой вы мой, я готов помогать вам не потому, что добрый дедушка. Да и вы, знаете ли, не такой уж невинный агнец! Отнюдь! Если честно, ко всем этим комсомольским функционерам, каким были и вы, отношусь без всякого уважения. Пошустрил этот передовой отряд молодежи в своё время изрядно. Вы просто из них не самый… — остановился Алексей Иванович, будто ждал подсказки. Но беглец помогать с определением не стал.
— … Не самый противный. Должен сказать, поначалу я относился к вашей истории без особого интереса. Давно убедился: дыма без огня не бывает. А разбираться в том, кто разжёг костёр и зачем, было недосуг. Да и о своих грехах вы лучше меня знаете. И даже, когда вас мытарил суд, а потом пытались ломать в колонии, не впечатляло, нет, не впечатляло. Ничего необычного в этом не было. Так поступают со всеми, кто попадает в эти жернова. Только о вас трубят, а о других… О других знают только родственники или такие, как я. А потом смотрю: держитесь, барахтаетесь, может, и правда, масло взобьёте, а?
«Это что же он имеет в виду? Лягушку, попавшую в кувшин с молоком? Только в кувшине было не молоко — помои».
— …И, знаете, мне не так вас, как матушку вашу жалко, и отца, разумеется, но матушку особенно. Вы ведь единственный сын? Может, как-то дать знать родителям? А что, если зайти на какой-то сайт… Хотя в интернете полно сообщений, что вас видели и там, и сям…
— Человек, который мне помогал, уже известил. Близкие знают, что я жив.
— Ну, и замечательно, и замечательно! Вы извините меня за резкость, но лучше сразу объясниться. Вы не обиделись?
— Обидчивые люди не занимаются бизнесом и, я думаю, общественной работой тоже. — Пустошин согласно закивал головой и спохватился.
— Вы хотели в интернет выйти? Действуйте!
— Спасибо. Но, с вашего разрешения, мне бы хотелось принять душ…
— Да-да, конечно! Извините, сразу не предложил. Я сейчас включу нагреватель, он быстро греет, десять минут — и готово. И полотенце приготовлю, должно же быть у меня чистое…
После ванны босой и без очков, гость выглядел таким беспомощным, что Алексею Ивановичу пришлось отвести глаза, будто подсмотрел то, что видеть нельзя. Вот таким же потерянным, вспомнил он, выглядел и директор завода Дубельский, когда того сняли с работы. Было в конце восьмидесятых такое поветрие — разбираться с руководством на собрании трудового коллектива. Коллектив директора с должности снял, да ещё под телевизионные камеры. И вот высокий, импозантный, громогласный мужик — всегда в шелковых японских галстуках — сразу превратился в развалину. Ходил потом по городу старичком, шаркал в стоптанных ботинках, а мужику только-только пятьдесят стукнуло. И ведь не самый плохой директор был! Но этот-то бобёр с такой высоты упал, куда там Дубельскому. Да не упал — скинули!
И теперь вот и голос совсем не начальственный, тихий, и руки не знает куда девать, а ведь ворочал такими делами, держал в подчинении тысячи людей. И ведь жёсткий был, писали, увольнял подчинённых без всякой жалости. Укатали сивку крутые горки, укатали! Да тот ли это человек, которого ищут, о ком трубит пресса? Ну, может у тебя на кухне сидеть магнат магнатыч? Не может. А в тюрьме? Иваныч, окстись, призвал сам себя Пустошин, ты же паспорт видел!
И когда гость снова сел за компьютер, предупредил: грузиться будет долго. А беглец, отстучав десять букв собственного имени, стал ждать, а потом как прорвало: список ссылок был бесконечным. Выбирал по заголовкам, но, открывая за файлом файл и читая по диагонали, скоро понял: и то, и другое, и пятое-десятое — такая лабуда! И, вспомнив Толино: дорвался Мартын до мыла, остановился: все, хватит! Вот только задержится на именном сайте, рассмотрит, что там и как.
Да, адвокаты держали его в курсе, но полного представления о контенте у него не было. Но лучше бы он туда не совался! Сайт выглядел мемориалом, всё было слишком! Масса каких-то его фотографий, где он во всяких ракурсах и разнообразных позах: то у машины, то с собакой, то с детьми, ещё маленькими, то с известными лицами. Так бывает, когда человек умирает, и тогда выкладывают весь архив. И пусть и снимки, и публикации ерундовые, но после смерти всё имеет значение.
А вот и тексты, его тексты. Ё! Неужели совсем недавно он был таким таким неадекватным? Что за высокопарные выражения! А это давнее письмецо, смотрите, как трогательно на тетрадном листочке в клеточку, и почерк какой-то школьный! Что у него и улучшилось за годы отсидки, так это почерк… Но неужели это писал он? Оказывается, он ещё и безграмотен, пропустил запятую или запятые? Зачем они всё это выложили?
Была во всём этом некая истеричность! Но ведь и он сам хотел выглядеть приглаженным, разве нет? Вспомни, как бестрепетно вносил правку в рукопись о самом себе. Девушка старается, пишет уже несколько лет его биографию, а он под видом исправления фактических ошибок исправляет, исправляет, будто заново жизнь переписывает. Собственно, все ответы на вопросы бесчисленных интервьюеров — это интерпретация, и ничего больше. Приписывание теперешних мыслей себе, тогдашнему…
Вот и ближний круг следит, и не дает никому усомниться в его высоких моральных качествах, и ни одного слова против шерсти здесь не допускалось. Но сколько ни понимай, что это всё сахарный сироп, и уже самого тошнит от себя, безупречного, но адекватное отношение отчего-то напрягает. И неизвестно, что хуже, удушающие объятья адептов или испепеляющая ненависть противников. В таком режиме трудно сохранить голову ясной… Все, все, выходим отсюда, выходим!