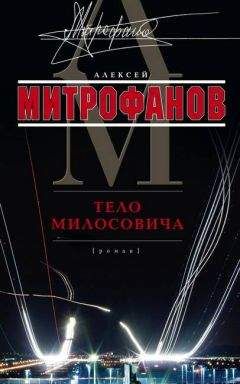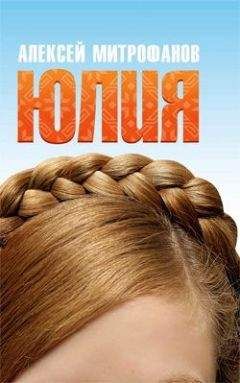Ознакомительная версия.
Сергей Бабурин был представлен как ратный друг Сербии, а выступал от имени и по поручению Союзного государства Белоруссии и России (как заместитель руководителя парламента этого сомнительного во всех отношениях государства), куда, как он припомнил, на правах третьей страны мечтала войти Югославия, ведомая господином Милосовичем.
— Воссоединения православных народов не произошло, — с горечью констатировал господин Бабурин, — и сегодня завершается великая эпоха Слободана Милосовича, последнего президента Югославии.
Под конец речи господин Бабурин заговорил, таким образом, необычайно здраво.
Митинг, продолжавшийся больше трех часов, завершился выступлением народной сербской актрисы Иваны Жигон, которая несколько раз признавалась в том, что ей душно (несмотря на то что одета она была, прямо скажем, довольно легкомысленно).
Гроб сгрузили обратно в „мерседес“ (когда это происходило, отчего-то упали все три сербских флага, стоявшие на пустой уже сцене) и повезли в Пожаревац, на родину Слободана Милосовича. Люди стали расходиться с митинга, и несколько десятков забрели на площадь Республики, где в это время шел митинг противников господина Милосовича. Собственно, сам факт проведения митинга на площади Республики подтверждал идею митингующих у здания союзной Скупщины, что Слобо жив. Подтверждал, несмотря на то что у людей на площади Республики в руках были разноцветные воздушные шарики — в знак радости от того, что он мертв.
Между хозяевами митинга на площади Республики и его гостями тут же завязалась схватка. Она была короткой, но бурной. Двоих пострадавших отправили в больницу. Тех, от чьих рук они пострадали, — в полицию. Справедливости ради надо сказать, что в полицию поехали в основном сторонники Слободана Милосовича. Так господин Милосович выиграл первую войну в своей жизни. Да и эта победа была пирровой, ибо из полиции их не выпустили и на следующий день.
Я тоже поехал в Пожаревац. Я хотел проводить господина Милосовича до самого его дома. Мне хотелось попытаться все-таки, так сказать, заглянуть ему в глаза. Я думал, что, может быть, хотя бы в Пожареваце крышку гроба, покрытую для надежности знаменем, наконец приоткроют и можно будет убедиться в том, что он на месте.
Дорога была свободна. До самого Пожареваца машин было крайне мало. На обочинах дороги стояли люди, ждущие кортежа. Их было не очень много, они встречались через три — пять километров, но они встречались. Они ждали и не знали, что „мерседес“ и еще несколько машин, которые проехали мимо них, — это и есть траурный кортеж. Они думали, наверное, что главная машина еще вот-вот проедет, что в микроавтобусе, может, венки везут, и хмуро и сочувственно махали на всякий случай каждой проезжающей мимо машине, в том числе и нашему такси.
Уже в Пожареваце я понял, что не все, кто собирался, доехали до дома Милосовича. Небольшой старенький памятничек у дороги был завален цветами и несколькими венками. Я увидел надпись на памятнике: „Александр Галич“. Сюда сложили то, что везли Слободану Милосовичу те, кто раздумал идти с ним до конца.
Я вдруг увидел, как возвращается его белградский Mercedes. Он шел порожним. Значит, гроб уже перегрузили. Я вышел из машины и побежал вперед. Через несколько минут я догнал процессию. Гроб покоился уже в другой машине — той же, правда, марки, но с пожаревацкими номерами. Я увидел в процессии многих из тех, кто был на митинге в Белграде. Трое детей в обмундировании с белыми то ли от холода, то ли от недетских переживаний лицами. Здесь же был их Че Гевара. Здесь же шли Геннадий Зюганов и Сергей Бабурин, от вида которых я за эти два дня устал больше, чем от Слободана Милосовича (тем более что последнего увидеть пока так и не удалось).
Чем ближе к центру города, тем больше людей становилось на его довольно тесных улицах. Здесь были десятки тысяч сербов. И здесь была давка. При мне из толпы вынесли двух женщин, потерявших сознание. Врач, который шел рядом с одной из них, был бледен больше, чем она, и так качал головой, что я понял: он ни за что не ручается.
В центре города процессия остановилась еще на один митинг. Гроб возили и носили по разным странам и городам уже несколько дней с остановками на митинги и прощания, и я думал, что хотя бы в родном Пожареваце Слободану Милосовичу удастся избежать этой участи. (Если он, конечно, был в этом гробу. Я ведь до сих пор, как и любой здравомыслящий человек на моем месте, не мог ничего с уверенностью сказать по этому поводу и поэтому вынужден каждый раз оговариваться.)
На митинге выступили почти все те же, кто выступал в Белграде. Исключением был российский генерал в отставке Леонид Ивашов, который читал свою речь на странной смеси сербского с украинским. Но и это не помешало мне понять, что Слободана Милосовича сгноили в натовских казематах новые фашисты. Новости для информагентств в выступлении Леонида Ивашова не было до тех пор, пока он не достал из кармана небольшую мягкую игрушку в виде сердечка с очень длинными руками и не сказал, что на ней ему в свое время расписался Слободан Милосович, „поэтому сердечко отправится в могилу вместе с гробом Слобо“ (а не с ним самим, не мог не обратить я внимание).
Между тем я вздрогнул, когда увидел сердечко. Оно было слишком хорошо мне знакомо. Моим маленьким детям точно такое слишком часто дарили полузнакомые и совсем незнакомые люди. Я его и сам несколько раз дарил своим детям. Дело в том, что сердечко отрывали с руками и до сих пор, кажется, отрывают в магазинах IKEA, где оно лежит тоннами в отделе детских игрушек. Зачем на нем расписался Слободан Милосович? История с мягкой игрушкой была, мягко говоря, странной.
Еще через час гроб понесли дальше. Улицы все сужались, и в какой-то момент я довольно быстро пошел в людском коридоре впереди него, чтобы он не наступал мне на пятки: люди, которые несли гроб, торопились, очевидно, успеть до наступления темноты и уже никак не успевали. Несколько раз меня пытались остановить разные люди, но я старался не разговаривать с ними. Так я дошел почти что до входа в дом. Я стоял за турникетами в пятидесяти метрах от входа в дом. По другую сторону турникетов были десятки теле— и фотокамер. Люди, судя по их виду, томились здесь с утра, а то и с вечера. Я понял, что зашел очень далеко. Через четверть часа машина с гробом поравнялась со мной. За ней шли уже всего человек десять, всех остальных отсекли раньше. Видимо, это были только родственники Милосовича. Из посторонних рядом со мной шли еще только все те же три подростка и сопровождающий их инвалид, быстро передвигающийся в своем кресле.
Мы подошли ко входу в дом 41 по улице Неманьина. Здесь гроб вытащили из машины и внесли в открытые ворота. Детей с инвалидом и еще несколько человек, стоявших у входа (в основном это были какие-то люди в военной форме), пустили внутрь, а меня наконец остановили, не объясняя причин. Я видел, как в дом вошли некоторые ораторы митинга в Белграде (но некоторых так и не пустили). Все эти люди подошли ко входу, похоже, через двор соседского дома.
Через четверть часа ко мне подошли и спросили, откуда я. Я честно ответил:
— Руссия.
Мне знаком показали, что я могу зайти.
Было уже совсем темно. Но во дворе горел довольно яркий свет прожекторов. Вокруг могилы стояли человек сорок. Гроб как раз опускали. Я видел, как медленно и печально он опускается в забетонированную яму. Потом, ночью, в гостинице, когда я смотрел телекартинку, мне самому казалось, что включился такой-то величественный электронный механизм по опусканию гроба. Но на самом деле я-то, стоя недалеко от могилы, хорошо видел, что сидевший рядом с ней на корточках пожилой серб, кряхтя, крутит металлическую ручку. Такой ручкой закатывают банки с огурцами.
И я успел увидеть главное: гроб так и не открыли перед тем, как над ним задвинули могильную плиту. С покойником прощались за глаза. В могилу полетело сердечко с ручками отставного генерала Ивашова и другие мелкие предметы. Депутат Александр Филатов, как он признавался, не удержался и „тоже, грешным делом, кинул кое-что“. После моих расспросов он не удержался и признался, что это был его депутатский значок.
Меня спросили, что это я тут пишу, и, узнав, что я журналист, попросили выйти из дома. Я не спорил, потому что это был не тот случай, чтобы спорить, и потому что все самое главное я увидел. Вернее, не увидел. Я не увидел в этом гробу Слободана Милосовича.
Последними, кого я увидел в доме, были белые голуби. Их выпустили, когда закрывали плиту. И я услышал музыку. Я не поверил своим ушам.
Его похоронили под „Подмосковные вечера“».
Вскоре Филатову позвонил Вождь.
— Что ты там наговорил этому писаке? — недовольно спросил он.
— Какому писаке? — не понял тот.
— Про Слободана, которого никто не видел.
— Ничего я ему не говорил. Он и сам там присутствовал, у него есть свое мнение.
Ознакомительная версия.