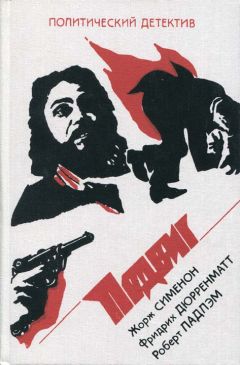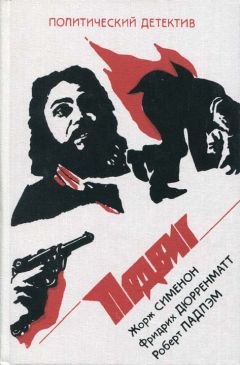Ему было холодно, и позднее это тоже подтвердилось. Доктор сказал, что несколько раз он вздрагивал. Его проняла дрожь, когда он встретился со своим отцом и Ксавье Малатом. Он уже не помнил, где именно и каким образом это произошло, но он повидал их и был потрясен тем, что они держали себя друг с другом как добрые друзья.
Этого он никак не ожидал. Это смущало его, сбивало с толку, ниспровергало все его прежние представления о ценности людей. И почему они, не имевшие между собой ничего общего, кроме того, что оба были уже покойниками, глядели на него с одинаковым выражением? То была не жалость. Слово это уже ничего не означало. И отнюдь не равнодушие, а… Пусть выражение было неточным, высокопарным, но он не находил более подходящего: то была высокая ясность души.
Его отец — куда ни шло. Это было еще понятно. Против этого он не возражал. Но приписывать Ксавье Малату, может быть, только оттого, что тот скончался под ножом хирурга, высокую ясность души!..
Он совершенно не знал, что с ним будет дальше, и спрашивал себя, проснется ли он в кресле «Луи-Филипп» в Эберге? Он не был уверен, что ему этого хочется, и тем не менее немного беспокоился.
Его застигли врасплох, не дали времени подготовиться к уходу, и ему казалось, что у него еще столько дел, которые необходимо закончить, столько вопросов, которые надо разрешить.
Боль в правой руке свидетельствовала, что он еще не окончательно покинул свою земную оболочку, и Президент открыл глаза. Без удивления увидел перед собой доктора Гаффе, который счел нужным успокоительно ему улыбнуться.
— Ну, господин Президент, вы хорошо поспали?
Спускалась ночь. Теперь доктор мог наконец двигаться, он встал, чтобы включить свет. Миллеран из соседней комнаты бесшумно прошла в переднюю, очевидно, чтобы сказать мадам Бланш, что Президент проснулся.
— Как видите, — произнес серьезно старик. — Кажется, я еще не умер.
Почему Гаффе постоянно испытывал потребность возражать, хотя знал, что все равно это должно произойти со дня на день и что нет никакой причины, чтобы это не случилось сегодня?
Президент не пытался острить, он просто констатировал факт.
— Вы не чувствовали легкого недомогания во время завтрака?
Он чуть было не начал ломать свою обычную комедию и едва не поддался желанию отделаться односложным, непонятным или резким ответом. Но к чему?
— Я разволновался из-за пустяков и принял две таблетки.
— Две! — воскликнул с облегчением доктор.
— Да. Теперь все прошло.
Язык еще вяло ворочался у него во рту, и движения оставались немного скованными.
— Посмотрим, какое у вас давление… Нет! Не вставайте… Мадам Бланш поможет мне снять с вас пиджак…
Он позволил им раздеть себя и не спросил, какое у него давление, а доктор на сей раз, намеренно или по забывчивости, ничего не сказал. Гаффе, как всегда в такие минуты, с вдохновенным видом прогулялся своим стетоскопом по его спине и груди.
— Кашляйте… Еще… Хорошо… Дышите…
Президент никогда еще не был столь послушным, и, конечно, ни доктор, ни мадам Бланш, как и Миллеран, стоявшая на страже где-то сбоку, не подозревали, отчего это так. Дело было в том, что в глубине души он уже отрешился от всего. Он не мог бы сказать, когда именно это произошло; очевидно, это было следствием его странного путешествия в те часы, когда он временно освободился от своей бренной оболочки.
Ощущение это не было ни болезненным, ни тем более горестным; пожалуй, оно походило на пузырь, который вдруг всплывает на поверхность реки и растворяется в воздухе. Полное отрешение… Оно так облегчило его, что он мог бы воскликнуть с восторгом, как ребенок, который глядит на улетающий воздушный красный шар:
— О!..
Ему хотелось в благодарность за их внимание и заботу пошутить с ними, но они бы не поняли шутки и, конечно, подумали бы, что он бредит.
Он никогда не бредил, поэтому у него не было возможности сравнивать, но был глубоко уверен, что еще никогда в жизни его сознание не было столь ясным.
— Вероятно, если я попрошу вас лечь в постель, вас это огорчит, — лепетал Гаффе, переглядываясь с мадам Бланш. — Заметьте, это следовало бы сделать просто из предосторожности. Вы сами только что сказали, что немного тревожились последнее время…
Он никогда этого не говорил. Должно быть, это Миллеран сказала доктору, когда — как они полагали — он спал…
— Наверное, ударит мороз. Ночью будет очень холодно, и, безусловно, постельный режим в течение суток… Вы отдохнете…
С минуту он размышлял над этим резонным доводом и со своей стороны предложил:
— С сегодняшней ночи, хорошо?
По правде говоря, он был не прочь послушаться Гаффе, но прежде ему необходимо было еще кое-что сделать. И доктор с мадам Бланш, наверное, очень удивились бы, если бы могли прочитать его мысли.
Он торопился поскорей покинуть их всех — Миллеран, Эмиля, Габриэлу, Мари… Он устал. Он сделал все, что мог, и хотел покоя. Если бы это было возможно, он попросил бы их надеть на него чистое белье и уложить в постель, закрыть ставни от тумана на улице, погасить всюду свет, кроме бледного маленького ночника…
И тогда, укрывшись одеялом до подбородка, сосредоточившись в полной тишине, в одиночестве, где спутником ему будет лишь его слабеющий пульс, он уйдет медленно, без сожалений, но немного печальный и, освободившись наконец от стыда и гордости, быстро покончит все земные счеты.
— Я прошу у вас прощения…
У кого? Это не имело значения, как он понял. Можно не называть имен.
— Я старался делать, что мог, со всей энергией, отпущенной человеку, и со всеми слабостями, ему присущими…
Увидит ли он вокруг себя внимательные лица Ксавье Малата, Филиппа Шаламона, своего отца и многих других, в том числе Эвелины Аршамбо, Марты, начальника станции и маленькой девочки с букетом цветов?
— Я сознаю, в моих поступках было мало хорошего…
Они не поощряли его, не стремились ему помочь. Но он не нуждался в этом. Он был один. Все остальные являлись всего лишь свидетелями, и он понял наконец, что свидетели не имеют права становиться судьями. И он также. Вообще никто.
— Простите…
Ни звука, тишина, лишь кровь толчками еще текла по артериям да потрескивали поленья за дверью.
Он встретит смерть с открытыми глазами.
— Будьте так добры, мадам Бланш, пойдите на кухню и подождите, пока я вас не позову. У меня кой-какие дела с Миллеран. Обещаю вам, что долго не задержусь и волноваться не буду.
Гаффе согласился на отсрочку, сделал ему укол, тонизирующий сердце, и заявил, что вернется около семи часов вечера.
— Говоря откровенно, — сказал молодой доктор, — ведь вы просили меня ничего от вас не скрывать, — у вас легкие хрипы в бронхах. Однако это меня не беспокоит, так как температура и пульс у вас нормальные, следовательно, никакого воспалительного процесса нет…
Его непривычная кротость тревожила их, но чем мог он их успокоить? Как бы ни вел он себя, они все равно будут взволнованно переглядываться. Он и они больше не понимали друг друга — вернее, он их еще понимал, но они были уже неспособны следовать за ним.
— Пойдемте со мной, Миллеран. Давайте займемся генеральной уборкой.
Сбитая с толку, она пошла за ним. Он не сразу нагнулся к нижней полке, где стояли «Приключения короля Позоля»; сначала он взял третий том Видаль-Лаблаша, в котором был спрятан уничтожающий документ против одного бывшего и, безусловно, будущего министра.
Он вынул документ, поставил книгу на место, взял другую книгу, затем третью и из каждой вынул либо письмо, либо обрывок измятой бумаги.
— Почему вы бледнеете, Миллеран? Можно подумать, вы вот-вот упадете в обморок.
Он не смотрел на нее. Но был убежден, что не ошибается. Наконец, нагнувшись к тому Пьера Луиса, он сказал ровным голосом, без упрека, без гнева:
— Вы давно знаете об этом, не правда ли?
Когда он, выпрямившись, добавил к бумагам, которые держал в руках, исповедь Шаламона, Миллеран вдруг зарыдала, сделала несколько шагов к двери, будто хотела убежать, скрыться в ночи, остановилась, бросилась к его ногам, пытаясь поймать его руку:
— Простите, господин Президент… Я не хотела… клянусь…
К нему мгновенно вернулся резкий, повелительный тон, он не выносил слез и драматических сцен, так же как не терпел проявлений грубости или глупости. Он не мог допустить, чтобы женщина ползала перед ним на коленях и целовала ему руку, обливаясь слезами.
Он приказал:
— Встаньте!
И прибавил уже менее сурово:
— Спокойно, Миллеран… Расстраиваться не из-за чего…
— Уверяю вас, господин Президент, я…
— Вы делали то, что вам поручали делать. Что ж, прекрасно. Кто?
Он хотел, чтобы она поскорей успокоилась, и, чтобы помочь ей, даже легонько потрепал ее по плечу совершенно не свойственным ему жестом.