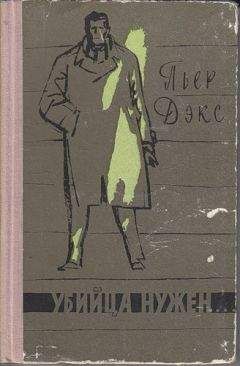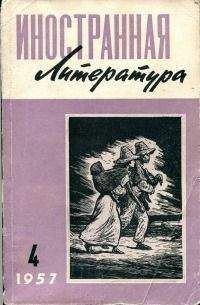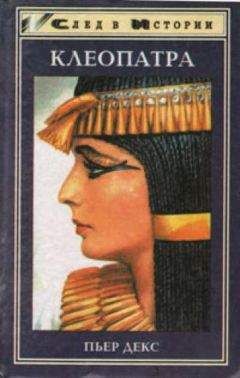Даниель ответил ему терпеливо и чистосердечно:
— Она не хотела сказать нам, где спрятан радиопередатчик ее отца!
Тот сладенько захихикал.
— И это вас до такой степени рассердило?
Даниель растерялся и захохотал. Сквозь глухой рокот зала он расслышал отчаянный, умоляющий шепот своего адвоката: «Да!.. Да!.. Говорите „да“».
Но Даниель разнервничался и отчеканил чистую правду:
— Да нет же, господин председатель, я и не думал сердиться!
Тот наклонился вперед с просветленным лицом человека, записывающего очко в свою пользу.
— Тогда скажите нам, Лавердон, почему вы истязали ее так беспощадно.
Даниель ответил, не раздумывая:
— Я же говорю вам, она знала, где передатчик!
Наступило молчание, такое плотное, что его можно было резать ножом. Даниель почувствовал недоброе напряжение зала, и у него вырвался вопль:
— Она была самой младшей в банде, она была женщина, а мы очень торопились… Поставьте себя на мое место, господин председатель!..
Но туг председатель заорал, как зарезанный. Он категорически отказывался ставить себя на его место. Адвокаты истицы, размахивая рукавами мантий, точно вороны крыльями, выкрикивали по его адресу всякие слова. Сама Метивье поднялась на своих костылях, трясла седыми патлами и визжала, чтобы его расстреляли немедленно. Адвокат Лавердона во все горло требовал психической экспертизы. Вот это был хай! Когда шум улегся, Даниель вспомнил, что на тюремном жаргоне адвокаты зовутся «слюнявыми». Здорово сказано!
С тех пор прошло почти восемь лет. Нет, Даниель ни на кого не сердился. Он убивал, когда приходилось, но без малейшей ярости. Топя Метивье в ванне, он не испытывал никакого удовольствия. Ему просто нужно было знать, где спрятан передатчик. А та коммунистка, которую они изнасиловали. Она была бы теперь старухой, если бы осталась жива. Просто-напросто люди делают вид, будто ничего не понимают, и председатель, и адвокаты наверняка побывали на войне. Да и этот кюре, по всей вероятности, тоже. Будто судьи не знают, что имеют дело с беднягами, прошедшими через лапы легавых? Так чего же прикидываться святыми? Видимо, этого добивалась та сволочь, что добралась до власти. Иначе какой смысл закрывать глаза? Если хочешь поддерживать порядок, разбираться в средствах не приходится. Он, Лавердон, лишь выполнял свою работу. Полезную, необходимую работу. Такую, где сердиться нельзя, где нужно сохранять полное хладнокровие…
Аббат, по-видимому, не хотел нарушать размышлений Даниеля. Лишь когда тот поднял голову, аббат опять принялся за свои вкрадчивые вопросы.
— Есть у вас семья, сын мой?
— Нет… Автомобильная катастрофа в сорок втором…
— Ах так. Понятно. — сказал аббат.
В его тоне Лавердону послышалась нотка снисходительности, и он обозлился. Ни черта он не понимает, этот аббат! Мсье Лавердон старший потерял ногу под Верденом. Пенсии по инвалидности не хватало, жена его держала лавочку-закусочную в Кукурд, между Роанн и Сент-Этьеном, на 7-й национальной магистрали. У отца Даниеля был брат, моложе его десятью годами. В сарае, пристроенном к лавочке, он открыл мастерскую по вулканизации автопокрышек. Дело пошло. В тридцать девятом его мобилизовали. Уходя, он оставил мастерскую на старшего брата. Великое Бегство обеспечило папаше Лавердону небольшое состояние.
В тот год Даниель рассчитывал получать награды в роаннском коллеже. Разгром превратил его в чернорабочего и мальчика на побегушках. Ему только что исполнилось шестнадцать лет. Неистребимо отвращение подростка, вынужденного прислуживать и получать чаевые от автомобилистов. Шумным, непрерывным потоком удирали они по Голубой дороге на юг, платя за все втридорога.
У старика хватило ума правильно поместить свои деньги. Он ловко создал запасы всего того, что исчезало, что становилось редкостью. В марте сорок первого, когда по карточкам не давали почти ничего, в доме Лавердонов отпраздновали первый миллион. Через три недели пришло извещение о смерти дяди, убитого при попытке бежать из немецкого концлагеря. Покойник так и не успел обвенчаться с женщиной, с которой жил.
Папаша Лавердон увидел в гибели брата два положительных момента: возможность не отчитываться по мастерской и возможность заявить во всеуслышание, что эту проходимку он и знать не хочет. Та имела наглость рассердиться. В качестве аргументов она выставила шестимесячного младенца и пачку писем, из которых явствовало, что отец признавал ребенка. Тогда Лавердон старший припомнил, что брат встретил эту особу на празднике, организованном коммунистами. Как только Гитлер напал на Советский Союз, дамочка оказалась в концлагере, а ее отпрыск был передан общественной благотворительности. Тогда же господин Жозеф Лавердон был назначен командиром Легиона бывших фронтовиков и начал всерьез подумывать о политической карьере.
Очень скоро Даниель стал одним из тех молодых людей, о которых говорили на модных курортах — Руайа, Шательгюйон, Виши. Он числился студентом лицея в Клермон-Ферране (его отец только что купил в этом городе большое кафе), но предпочитал показываться там не слишком часто. Его видели в компании политических деятелей, любивших окружать себя «новой молодежью». Он лелеял смутную надежду на теплое местечко в одном из министерств. Папаша Лавердон уже видел сына в красивой форме начальника отряда «Французской молодежи».
В лицее, однако, господствовало вредное направление. Несмотря на высокие связи Даниеля, его дважды срезали на экзаменах. Вишистский журналист разразился громовой статьей, бичующей преподавателей, зараженных коммунистическим духом, но статья не залечила ран, нанесенных самолюбию Даниеля. Мечтая о мести, он остался на первом курсе на второй год. Через три месяца снежной ночью Жозеф Лавердон расплющил свой мощный «Ситроен» о поломанный грузовик, с потушенными фарами стоявший на дороге. Он возвращался с банкета, на котором председательствовал адмирал Дарлан. В виде исключения на этот раз с ним была жена: банкет носил официальный характер.
Чтобы вытащить трупы, пришлось резать кузов автогеном. Даниель прибыл к месту происшествия на рассвете и упал в обморок. Этого обморока он никогда не мог себе простить.
Его жег стыд. В отместку самому себе он не стал соблюдать траура и пустился в безудержный разгул. К концу сорок второго года у него не было ни гроша. Нотариус известил его, что задолженность уже превышает сумму, которую он должен получить по достижении совершеннолетия. Он ограбил еврея в Канне, выдал несколько необеспеченных чеков, но все это были лишь кратковременные отсрочки. Со смертью отца денежный источник безнадежно иссяк. Еще до получения повестки, приглашавшей его явиться в полицию, Даниель сделал серьезный шаг. Он вступил добровольцем в милицию, только что созданную Дарнаном по немецкому образцу. Он не видел другого способа сохранить вопреки всему то, что определяется досадным англицизмом: свой «стэндинг»…
Все это Даниель выложил аббату без запинки. Он ничего не пропускал и не прикрашивал, подсознательная потребность в исповеди руководила им. На минуту он испугался дремавших в нем воспоминаний, но тут же успокоил себя. Возможно ведь, что аббату понравится как раз то, чего он так стыдился. Он покосился на аббата. Тот спокойно ожидал, когда Даниель окончит свой рассказ. Затем сказал, не отрывая глаз от шоссе:
— Печально, сын мой, что у вас нет семьи. Однако не судите строго своих родителей. Простите им!
— Да нет же! — воскликнул Даниель. — Папаша был славный парень. Такой ловкач и умница… — голос его дрогнул.
По лицу аббата скользнуло неудовольствие. Он упорно смотрел на дорогу, но было заметно, что мысли его заняты рассказом Даниеля. Даниель воспринял это как легкую бестактность. Ведь кюре совсем не походил на ханжу, а отец и вправду был молодчина. Он любил пожить в свое удовольствие и не любил, когда ему мешали. Зато он все понимал гораздо лучше, чем мать. Когда Даниель сделал ребенка одной девчушке из бюро Мишлэна, в Клермон-Ферране, мамаша решила, что все пропало. Она требовала, чтобы Даниель немедленно записался в организацию «Французская молодежь», другого выхода она не видела. А родитель без звука отсчитал нужную сумму. Больше того, он дал еще и адрес клиники, где не будет никаких историй. Это проливало некоторый свет на папашины привычки.
В первый раз за много лет Даниель думал о своих родителях. Все-таки они были славные люди, особенно отец. Интересно, что делал бы сейчас старик, будь он жив? Во-первых, он никогда не позволил бы закатать Даниеля в тюрьму, это уже наверняка. Жозеф Лавердон был бы по меньшей мере депутатом и принадлежал бы к той же партии, что и министр юстиции. Для Даниеля все французы делились на две части. На одной стороне — порядочные люди. На другой — всякая сволочь. Сюда входили коммунисты, голодранцы, североафриканцы и евреи. Да где-то посредине были еще МРП.[1] Коммунисты — это враги. МРП — предатели. Даниель не знал, почему именно они предатели, но ему столько раз приходилось слышать это в тюрьме. Однако МРП обладали властью помилования, так что…