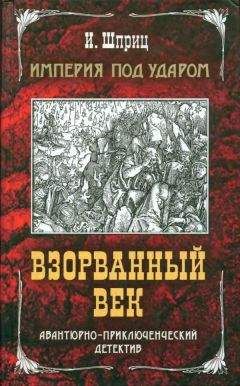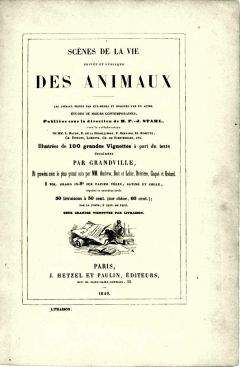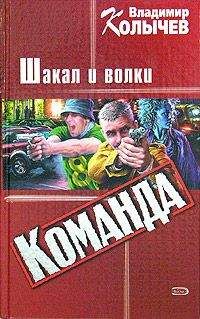Пожелав счастливого Нового года и нового века, Певзнер запер дверь за кассиршей и сел перечитывать письмо от своего первенца, красавца Иосифа, который обучался химии в Мюнхенском университете. Письмо тревожило полным отсутствием вестей о новых немецких технологиях в деле очистки веществ. Взамен этого Иосиф кормил отца баснями о грядущем социальном равенстве, о борьбе за это равенство и о тех счастливцах, которые пали или падут ради блага человечества.
Менее всего старик Певзнер мечтал пожертвовать своим единственным сыном, своим красавцем Иосифом (дочь он не брал в расчет) ради блага какой‑то там веками страдающей шпаны. Не для того он сам прошел через позор крещения, когда отец публично проклял его, возложив руки на священный свиток Торы. Но это позволило всей семье перепрыгнуть черту оседлости и жить в столице.
Не везло Певзнеру с учениками: один украл деньги, второй пытается украсть сына. Несколько месяцев тому назад его попросили взять в ученики смышленого еврейского юношу Гришу Гершуни. Певзнер — да будет проклят тот час и та минута, когда он согласился! — сказал «да», и Гриша пришел с узелком за спиной. Его приняли как сына родного. И вначале радовались Гришиной энергии. Чистая юла, с самого утра и до поздней ночи Гриша крутился и делал все за троих или даже четверых. Сам Иоанн Кронштадтский пожаловал Грише грамоту за устройство и снабжение лечебных пунктов при домах рабочего просвещения. А тем временем Гриша пел и пел Иосифу на ухо про несправедливость этого мира, про мир другой, райский, где все свободны, где каждому воздается по труду. И, дескать, за этот мир нужно бороться, ежесекундно проливая кровь тех, кто этому сопротивляется! В борьбе обретешь ты право свое! С этими словами Гриша исчез, а посеянные им семена раздора уже взошли в голове любимого сына. Так недалеко и до кровавого урожая!
Певзнер сам всю жизнь боролся, но, упаси Боже, никогда не делал другим то, чего не желал себе. Конечно, он не праведник, один морфий чего стоит… но лишать жизни себе подобных для улучшения жизни неподобных себе — это чересчур! И посему настроение, вначале радужное, испортилось.
Когда же пришел провизор (аптека в эту ночь дежурила), Певзнер расстроился окончательно. Этому расстройству способствовал внешний вид провизора, человека неаккуратного, одетого черт знает во что, с маленькими опухшими глазками. Нет, новый век должен был начинаться много лучше. С этой мыслью Исидор Вениаминович запер сейф, ключ взял с собой и, пожелав провизору спокойной ночи, отправился домой. Дома, в дальней комнате, его ждали талес, тефилн[2] и молитвенник. Несмотря на крещение, Певзнер не очень доверял православию и в особо трудные, переломные моменты жизни на всякий случай тайком обращался к Богу–Отцу, а не к Сыну. Как его учили в хедере[3]. Прошлое, знаете ли, из себя не вытравишь…
* * *Путиловскому было хорошо. И не только от коньяка. Всякий, кто ежедневно имеет дело с коньяком, рано или поздно перестает строить иллюзии при встрече с янтарным знакомцем. И хорошо не от того, что перед ним расстилалась красавица Нева, а по ту сторону перстом в небо, как все русские, тыкал и попадал Медный всадник. Павел Нестерович влюбился, как гимназист девятого класса. (Всем известно, что в восьмом классе у гимназиста должны прорезаться дрянные усики, а в девятом — первая любовь.) Да–с, как гимназист, с восторгом и упоением!
Оказалось, что по сию пору Павел Нестерович не познал настоящей любви. Все, что ему раньше казалось любовью, теперь, с высоты теперешнего чувства, виделось лишь пошлой смесью похоти, женских духов и глупого вида обманутых мужей. Коих было так пронзительно жалко, особенно когда они принимались угощать его сигарой и куковать о своей счастливой семейной жизни, изнанку которой с прошедшей ночи Путиловский знал много лучше своего собеседника.
Оказалось, что он принимал за любовь беседы до утра, когда на него вываливали весь накопившийся багаж комплексов и проблем — и ведь не выкинешь из окна! — и спрашивали, спрашивали: как жить? что делать? И он, не в силах да и не желавший решать за кого‑то все эти интересные, но ненужные ему в три часа ночи проблемы, залеплял безостановочно говорящий ротик чувственным поцелуем.
Со временем он просто не давал им вымолвить ни слова, чем и производил на женщин неизгладимое впечатление. Слухи о нем как о наиболее неутомимом любовнике столицы уже стали доходить и до высшего света. Но, к счастью, имени не произносилось. Потому что Путиловский был любовник тайный. Бывают тайные советники, бывают тайные любовники. А поскольку с дурами Павел Нестерович дела не имел из принципиальных соображений, его умные пассии всегда молчали, чтобы неосторожным словом не перерезать духовную нить, связавшую их с этим молчаливым собеседником. Его глаза мерцали в полутьме спальни, почти светились. И желание еще раз увидеть этот свет перевешивало желание похвастаться. У всех его женщин после свиданий глаза тоже начинали светиться. Иногда по этому блеску они признавали друг друга и улыбались при встрече.
Нина Неклюдова тоже сразила Павла Нестеровича своими глазами. Они у нее светились от природы, от радости жизни, оттого, что она молода, красива и только что выпущена из Смольного института с дипломом домашней учительницы. И оттого, что на Рождество Христово весь их выпуск был приглашен в Мариинский театр, где в каждой ложе лежала коробка с конфетами и стоял букет цветов. И диплом, подписанный великим князем Константином, извещал: сия девица одарена небесами по всем предметам… ну почти по всем.
Путиловский и Нина знали друг друга очень давно — с детских лет. Естественно, Нининых. Ее батюшка служил патологоанатомом при Департаменте полиции, и молодой следователь Путиловский частенько забегал в гостеприимный хлебосольный дом Неклюдовых. Постоянное общение с людскими телами по ту сторону Стикса выработало у старшего Неклюдова неистребимую любовь ко всем проявлениям жизни с достиксовой стороны. И после осмотра очередного трупа где‑нибудь в четыре часа утра что могло быть для младшего следователя лучше тарелки густой ароматной ухи и трех традиционных стопок водки на смородиновых почках — двух до ухи и одной после? Только глубокий сон на диване в гостиной. И пробуждение оттого, что маленькая девочка водит нежным гусиным перышком по лицу спящего. Так они и познакомились. Путиловский открыл свои гипнотизирующие глаза и спросил: «Ты кто?» А девочка от неожиданности застыла и не могла вымолвить ни слова.
Теперь же Нина брала свое: ни слова не мог вымолвить счастливый Путиловский. А Нина все говорила и говорила: как они обставят свой дом, она уже и место в Лесном присмотрела, у Серебряного пруда, и дача не нужна, потому что там вокруг лес. И сколько детей у них будет — шесть, три мальчика и три девочки. Все мальчики будут похожи на нее, а девочки пойдут в Павла, потому что она понимает, что Павел красавец, а она дурнушка, дурнушка, дурнушка… Тут Путиловский бросался целовать очаровательную «дурнушку» как сумасшедший, и все их благопристойные планы на ближайшие сорок пять минут рушились…
В порыве раскаяния Павел повинился во всех порочащих его связях. Исповедь была выслушана вчерашней институткой с открытым от удивления ртом: о Господи, как ей повезло! Если бы подружки могли слышать! Тут же раскаявшемуся было дано полное прощение, наложена строгая епитимья и взята страшная клятва более ни с кем не встречаться, в чем раскаявшийся с удовольствием и поклялся. Хотя в глубине души, где‑то очень глубоко, тлели огоньки сомненья в верности данной клятве. Кто‑то оттуда, изнутри, следил за Павлом Нестеровичем и слегка посмеивался. Но если не вслушиваться, то этот кто‑то был почти неразличим. И слава Богу.
Внезапно нечто реальное вторглось в сферу предбрачных мечтаний и стало грубо мять и тискать расслабившееся было тело Путиловского. Он тяжело вздохнул и повернулся лицом к реальности. Реальность была воплощена в виде высокого, слегка грузного господина в богатой шубе. Троекратное лобызание окончательно развеяло все чары и вернуло Павла Нестеровича в грустную действительность. Перед ним стоял и ждал ответного проявления таких же дружеских чувств Александр Иосифович Франк, приват–доцент Петербургского университета, философ (с обязательным ударением на последнем слоге). Единственный и верный друг Сашка…
— О Моцарт… — Франк принюхался и выдал свою любимую реплику: — Опять ты выпил без меня?
* * *Нельзя держать все яйца в одной корзине. И тогда у вас на завтрак всегда будет яичница из двух, а то и из трех яиц, поджаренные ломти бекона с прожилками мяса, две чашки крепкого черного чая с сахаром и две самокрутки приличного табака из голландской машинки. А то, что завтрак пришелся на полдень, — так это смотря когда лечь в постель. И с кем. Викентьев блаженно вдохнул тугую табачную струю, выдохнул и весьма довольным взглядом окинул новую лабораторию.