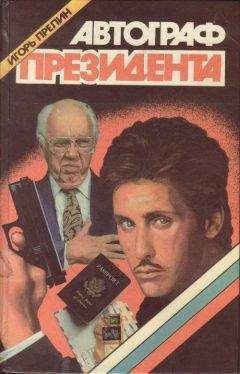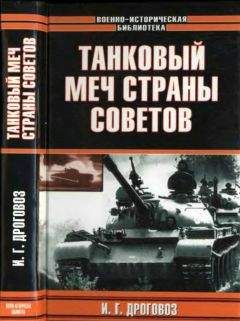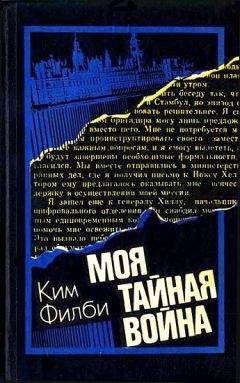Василий Федорович подождал, пока я снова сяду на свое место, и деловым тоном произнес:
— А теперь перейдем к нашим текущим делам…
А еще через два дня он вручил мне служебное удостоверение и личное оружие.
По установившейся в управлении традиции эта церемония происходила в кабинете, являвшемся, по существу, небольшим музеем, экспонаты которого рассказывали об истории управления с момента образования губернской чрезвычайной комиссии. Здесь чествовали ветеранов, проводили встречи с молодыми сотрудниками, устраивали различные торжественные мероприятия.
На стендах были указаны фамилии сотрудников управления, погибших в боях с фашистами, висели фотографии участников Великой Отечественной войны и почетных чекистов.
А где-то в самом начале экспозиции, там, где находились стенды с фотографиями первых сотрудников губчека, висела фотография, дороже которой в этом небольшом зале для меня ничего не было. На ней был изображен человек в форме сотрудника госбезопасности тридцатых годов, с двумя орденами Красного Знамени на гимнастерке. Под фотографией была подпись:
ВДОВИН
Иван Михайлович
1902–1937
В конце краткой биографической справки было указано:
«В августе 1937 года погиб при выполнении специального задания».
Это был мой отец, с которым мы не виделись никогда…
Василий Федорович закончил телефонный разговор и обратился ко мне:
— Я вызвал вас вот по какому поводу… Мы предусмотрели в вашем плане освоения участка работы стажировку в следственном отделе, не так ли?
— Так точно, товарищ полковник.
Василий Федорович одобрительно кивнул.
— Вот я и хочу, параллельно с участием в расследовании дела «Энтузиастов», подключить вас к рассмотрению одного заявления… Оно поступило от гражданки Бондаренко Анны Тимофеевны. Ее муж, Бондаренко Григорий Васильевич, в тридцать седьмом году был прокурором нашего города и, по всей видимости, был незаслуженно репрессирован… — Василий Федорович потер пальцами виски и тяжело вздохнул. — Вот в этом вам вместе со старшим следователем Осиповым и предстоит разобраться.
Капитан Осипов был лучшим, на мой взгляд, следователем нашего управления и сейчас занимался делом «Энтузиастов».
— Если я правильно вас понял, Василий Федорович, речь идет о пересмотре дела Бондаренко?
Начальник отдела отрицательно покачал головой:
— В том-то и заключается проблема, что пересматривать нечего! В наших архивах нет никаких сведений о том, что прокурор был арестован или осужден. — Он помолчал немного и добавил: — Вообще на него нет никаких сведений!
— Как же его могли репрессировать, — недоуменно произнес я, — если при этом не осталось никаких следов?
— Могли, Михаил Иванович, могли! — тяжело вздохнул Василий Федорович. — В те годы человек мог исчезнуть бесследно! Нам уже не раз приходилось пересматривать такие дела.
Меня впервые подключили к пересмотру подобного дела, дела, которого, по сути, не было, и я, честно говоря, был в полной растерянности.
— С чего же тогда начать? — спросил я.
— Мы даем вас в помощь Осипову, чтобы вы проделали всю предварительную работу. Зайдите к нему, ознакомьтесь с заявлением Бондаренко и постарайтесь в возможно более короткие сроки во всем разобраться. О всех результатах сразу докладывайте мне.
— Есть, товарищ полковник! — ответил я и встал.
С заявлением Анны Тимофеевны Бондаренко я сумел ознакомиться только на следующий день, потому что Осипова не оказалось на месте: он проводил какие-то следственные мероприятия, связанные с расследованием дела «Энтузиастов».
К моему удивлению, Осипова совершенно не смущало то обстоятельство, что проверку этого заявления приходилось начинать на пустом месте: как и Василий Федорович, он уже привык к тому, что почти каждое дело, связанное с реабилитацией пострадавших в годы репрессий, ставило перед следователями массу всевозможных загадок и тайн, которые им предстояло разгадать.
— Вот что, Михаил, — сказал он, — прежде всего надо побеседовать с гражданкой Бондаренко и выяснить у нее все, что может пролить свет на судьбу ее мужа. Постарайтесь сегодня же с ней встретиться, а там будет видно.
Следуя его совету, во второй половине дня я поехал к Анне Тимофеевне. Она работала в школе и в это время, по моим расчетам, как раз должна была быть дома.
Жила Анна Тимофеевна практически в центре города, ехать было недолго, каких-нибудь пятнадцать минут на троллейбусе, и я не стал брать служебную машину. Да и вообще у нас было не принято на такие расстояния ездить на служебной машине.
Я быстро нашел нужный мне дом. Это было четырехэтажное кирпичное здание довоенной постройки с двумя подъездами. Я жил почти в таком же доме, только он стоял не в глубине двора, а выходил на улицу, и потому его наружные стены были оштукатурены и покрашены в бежевый цвет.
Поднявшись по лестнице на второй этаж, я остановился перед дверью шестнадцатой квартиры и уже собирался позвонить, как вдруг меня охватило какое-то странное чувство.
В те годы я еще скептически относился ко всякого рода предчувствиям, внутренним голосам и прочей, как мне казалось, мистике. Видимо, в моем тогдашнем возрасте и с моим скудным жизненным опытом еще рановато было обладать мало-мальски развитой интуицией. Но в этот раз, может быть, впервые в жизни, меня определенно охватило какое-то смутное беспокойство, словно там, за этой обитой потрескавшимся дерматином дверью, была скрыта тайна, разгадка которой будет иметь большое значение не только для обитателей этой квартиры, но и для меня самого.
Это длилось какое-то мгновение. Потом я не раз вспоминал об этой заминке у двери шестнадцатой квартиры, и мне казалось, что именно тогда я почувствовал: то, что вслед за этим произойдет, каким-то образом отразится и на моей судьбе!
Стряхнув с себя это секундное замешательство, я наконец решился и позвонил.
За дверью послышались шаги, щелкнул замок.
Дверь открыла женщина лет пятидесяти, со строгой гладкой прической и внимательными, неулыбчивыми глазами. Она молча посмотрела на меня, и, отвечая на ее вопросительный взгляд, я спросил:
— Это квартира Бондаренко?
— Да, молодой человек, — ответила женщина и, не дожидаясь моего второго вопроса, позвала: — Вера, это к тебе!
Из дальней комнаты вышла девушка моего возраста, внешне совсем непохожая на свою мать, и в то же время я сразу уловил какое-то несомненное сходство между ними.
Приглядевшись повнимательнее, я понял, что их роднит одинаковое выражение глаз, как будто чем-то встревоженных и в то же время очень доверчивых: такое сходство бывает не просто у родственников, а у людей, близких по духу и взглядам на жизнь.
Вера без особого интереса посмотрела на незнакомого ей человека, и меня, привыкшего к некоторому вниманию со стороны определенной части женской половины человечества, это даже несколько задело. Но я вспомнил, что пришел по делу, и поэтому, отбросив все посторонние мысли, деловым тоном произнес:
— Извините, Вера, но я не к вам. Я к Анне Тимофеевне.
С этими словами я протянул Анне Тимофеевне свое служебное удостоверение и пояснил:
— Я по поводу вашего заявления.
— Проходите, — даже не взглянув на мое удостоверение и нисколько не удивившись моему визиту, сказала Анна Тимофеевна, а затем обратилась к дочери: — Вера, помоги молодому человеку раздеться.
Пока я в прихожей снимал плащ, Анна Тимофеевна прошла в комнату.
Я последовал за ней.
Войдя в комнату, я увидел, что Анна Тимофеевна сидит за круглым столом, на котором стопками лежат ученические тетради.
Она отодвинула их в сторону и указала мне на стул:
— Садитесь, пожалуйста.
Проходя к столу, я успел бегло осмотреть комнату. Она была заставлена довоенной мебелью и служила, судя по всему, одновременно кабинетом и гостиной.
У меня сразу возникло ощущение, что время как будто остановилось в этой комнате лет тридцать назад. Единственными современными приметами были небольшая радиола на тумбочке и портрет Гагарина на стене.
Я сел на предложенный мне стул и, посмотрев в ожидающие глаза Анны Тимофеевны, сказал:
— Мне поручено рассмотреть ваше заявление… Могу я задать вам несколько дополнительных вопросов?
— Да, конечно, — с какой-то покорностью в голосе ответила Анна Тимофеевна и вздохнула.
Вера вошла в комнату следом за мной и остановилась у двери, оказавшись таким образом у меня за спиной. Из-за этого я испытывал определенное неудобство, так как не мог обращаться к обеим моим собеседницам. Но потом я подумал, что дело, по которому я пришел, касается прежде всего Анны Тимофеевны, и стал разговаривать только с ней.
— Дело в том, Анна Тимофеевна, — начал я, — что в наших архивах нет никаких сведений, подтверждающих, что ваш муж был репрессирован в тридцать седьмом году. Вообще нет данных о том, что он был арестован или находился под следствием.