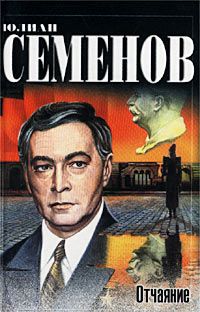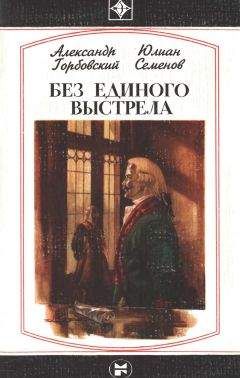Ознакомительная версия.
Сначала он никак не мог сосредоточиться на шуточках старика Ярона, потом увлекся тем, как себя подавала Юнаковская; закрыл глаза, слушая арию, исполнявшуюся Михаилом Качаловым, постепенно спектакль захватил его, растворил в себе, успокоил.
Выходя из подъезда, подумал: «Все же оперетта — очень доброе искусство, дает надежду на выход из самых трудных положений, когда, кажется, трагическая развязка неминуема… Говорят, „легкий жанр“… Ну и замечательно, что легкий! В операх или топятся, или помирают, чего ж в этом хорошего? Вот бы и назвать оперу — „тяжелый жанр“…»
Приехал домой, решив не возвращаться в контору, однако жена сказала, что дважды звонил помощник, разыскивал.
Влодимирский набрал номер, сухо поинтересовался:
— В чем дело?
— Гнедов ждет вас с чрезвычайным сообщением.
Гнедовым был следователь Сергей Сергеевич; прижимал к себе папку, в которой лежал лишь один конверт — только что нашел на Центральном почтамте: письмо из Лос-Анджелеса некоему Максу Брунну от Грегори Спарка; обратный адрес, марки, все честь по чести.
Влодимирский прочитал русский перевод: «Я пытался найти Вас и Пола повсюду. Я пишу туда, где, быть может, вы сейчас находитесь. После гибели моих детей и жены хочу передать Вам и Полу мое проклятие. Я пишу это за несколько минут до того, как нажму спусковой крючок пистолета. Я проклинаю Вас не как Брунна, а как носителя идеи добра и справедливости. Такой идеи нет, не было и не будет на этой земле. Я прощаю Вам лично то зло, которое Вы мне причинили. Но Вам никогда не будет прощения Божьего. Человек да соразмеряет силы свои!
Грегори Спарк».
Влодимирский походил по кабинету, потом позвонил к Комурову: тот обычно сидел до той поры, пока из Кремля не уезжал Сталин.
— Заходи, — отозвался тот. — Что-нибудь экстренное?
— Да. Очень.
…Комуров отложил письмо в сторону:
— Ну и что ты об этом думаешь?
— Ничего не понимаю, — признался Влодимирский. — Ясно только одно: Исаев не блефовал. Он говорил правду про свои контакты в Штатах.
— В его отчете, что он гнал на даче, есть два опасных имени: Пол Роумэн и Грегори Спарк. Других контактов из Штатов у него не было, верно?
— А черт его знает, — угрюмо отозвался Влодимирский. — Особый случай… Я его не понимаю, совершенно не понимаю… Пол-то этот самый тоже исчез, а ведь Исаев все первые часы кричал про Пола и Мюллера…
— Не паникуй… Что это ты вдруг? Я прослушал его беседы с Валленбергом… Разделаемся с этим чертовым шведом, а Исаева потрясешь, не такие кололись… В конце концов получишь адреса, если таковые остались в Америке… Ничего, мы рукастые, достанем… Да и потом у Лаврентия Павловича, мне кажется, появились какие-то особые виды на этого Исаева…
— Но ведь Валленберг отказывается брать на себя «Джойнт»… Он вполне популярно объяснил, что это такое, нельзя выставлять себя на посмешище.
— А мы сейчас и не будем жать на «Джойнт», — ответил Комуров. — Сосредоточь внимание на его переговорах с гестапо, Эйхманом, он же этого не отрицает… И с Салаши… И, возможно, с товарищем Ласло Райком, — медленно добавил Комуров. — Да, да, с нашим коллегой из Венгрии.
— Что, плохо с ним? — осторожно поинтересовался Влодимирский.
— И не только с ним одним… Его настоящая фамилия, кстати, Райх, он такой же венгр, как я эстонец…
— Тогда надо вводить еще одного человека в комбинацию…
— Вводи, дело закреплено за тобой.
— Я хочу подсадить к Валленбергу нашего Рата.
— Резон?
— Хочу попробовать через него узнать, что Исаев написал Валленбергу, а тот сжевал…
— Думаешь, сможет?
— Попытка не пытка.
Комуров засмеялся:
— Э, нет, милый! Пытка — это попытка, а не наоборот!
— Товарищ генерал, — осторожно спросил Влодимирский, — а если Лаврентий Павлович имеет виды на Исаева, может, не выводить его на процесс?
Комуров после паузы повторил задумчиво:
— Твое дело, дорогой, тебе и решать…
В тот же день Исаева перевели в просторную камеру с душем: его место занял Рат — окровавленный, в изорванной рубашке, в туфлях на босу ногу, в полубессознательном состоянии. Два дня Валленберг выхаживал «англичанина», потом тот рассказал, что от него требуют признания, что он ехал в Будапешт в январе сорок пятого на встречу с неким Райком и шведом Валленбергом, вез доллары.
Сидел он в камере Валленберга два месяца и расположил его настолько, что тот сказал: «Я соглашусь на процесс только в том случае, если получу свидание с матерью, шведскими дипломатами и адвокатом. И если они будут присутствовать в суде».
А на следующий день добавил фразу, которая сделала ясным, что Исаев написал ему:
— Иначе обвинение не получит свидетелей. Пусть тогда плетут что угодно, фарс и есть фарс.
…Аркадий Аркадьевич поздравил Рата с успехом, обнял, сказал, чтоб отдыхал неделю.
…Арестовали Рата в приемной Влодимирского, отправили в одиночку; через месяц зашел Сергей Сергеевич:
— Рат, у вас одно спасение: рассказать на процессе все то, что вы говорили в камере. Впрочем, это спасение не только ваше, но и всей семьи: мы их сегодня забрали — связь с еврейскими буржуазными националистами…
…Валленберга вызвали на допрос через полчаса после того, как Влодимирский предложил Исаеву переодеться в полковничий китель: «Едем встречать сына».
Заказал ему стакан кофе и сушки, сказал, что вернется через десять минут, и покинул кабинет.
Следователь, сопровождавший Валленберга, шепнул:
— Сейчас наконец вы встретитесь с тем, кто все эти годы курировал ваше дело. Постарайтесь договориться с ним миром, он человек крутой, но справедливый.
Следователь открыл дверь кабинета Влодимирского, обменявшись стремительным взглядом с помощником, поднявшимся из-за своего бюро; пропустил Валленберга; встал у двери.
Валленберг увидел седого полковника, который медленно обернулся к нему, узнал Исаева, глаза его округлились, наполнились ужасом, он тонко закричал и, наклонив голову, бросился к окну.
Следователь и ворвавшийся помощник схватили Валленберга и, повалив его, начали крутить руки.
Исаев поднялся, схватил стул и со всего маху ударил им лощеного помощника по голове. Тот отвалился, Исаев взмахнул стулом еще раз, чтобы обрушить его на голову второго, но руку его вывернули, кабинет заполнился людьми, Аркадий Аркадьевич орал что-то, брызгая белой пеной, а потом Исаев потерял сознание от боли…
…Через три года в одиночку Исаева пришел человек, явно загримированный, и, тщательно скрывая акцент, спросил:
— Хотите знать, кто виновен в вашей трагедии?
Исаев безразлично молчал.
Человек в темных очках и с неестественно льняной шевелюрой — парик, ясное дело, — протянул ему постановление ОСО на расстрел жены и сына с резолюцией Сталина.
Реакция Исаева была странной: он согласно кивнул.
— Конечно же, хотели бы отомстить? — усмехнулся, человек.
— История отомстит, — ответил Исаев. — Человек бессилен.
Посетитель еще глубже сунул кулаки в карманы плаща и мягко заметил:
— Я попрошу, чтобы вам дали прочесть Горького. Найдете нужную фразу: «Человек — звучит гордо». Особенно советский человек. А не вы ли пример для советских граждан, полковник?
И, не дожидаясь ответа Исаева, вышел из одиночки…
…В салоне «ЗИСа», стащив с себя льняной парик и очки, Берия задумчиво сказал Комурову:
— Переведите его в хороший лагерь, где есть отдельные домики… Отхаживайте, как любимую… Если Рюмин или еще кто будут интересоваться, где он, — а я это вполне допускаю — ответите, что вытребовали в мою «шарашку»… Познакомьте его с процессом над Трайчо Костовым, Ласло Райком и Яношем Кадаром… Подготовьте материалы о подготовке процесса над Сланским и Артуром Лондоном — с этим он был знаком лично, я не поленился потратить еще два дня на его личное дело… Вот и все. Приведите его в форму… Пусть говорит все, что хочет, — не записывайте ни одного его слова… Лагерь должен быть на расстоянии не более двух часов лета до Москвы: Исаев может понадобиться мне в любой день и час, днем или ночью.
…Первые дни Исаев вообще не мог спать, снотворного не давали, только массировали.
Читал. Сначала не очень-то входил в текст, перед глазами стояли лица Сашеньки, Саньки, Валленберга, Пола, Никандрова, Спарка, Ванюшина — они все время были с ним, в нем, перед ним…
Потом, однако, стал вчитываться: газеты давали все. И постепенно, перейдя от первых двух полос — фанфарных, торжественных, чуждых Началу, — к третьей и четвертой, он все больше и больше ощущал, что его, прежнего, нет уже; пуст; если что и осталось, то лишь одно — отчаяние. Оно было безмерным и величавым, как огромный океан в минуты полного штиля. Он запрещал себе нарушать этот океан отчаяния вопросами и ответами, он знал, что не сможет ответить ни на один вопрос; он не чувствовал в себе сил, воли и гнева, хотя именно гнев сокрыт в подоплеке отчаяния — затаенный, холодный, лишенный логики и чувства, чреватый таким взрывом, который непредсказуем так же, как и неотвратим…
Ознакомительная версия.