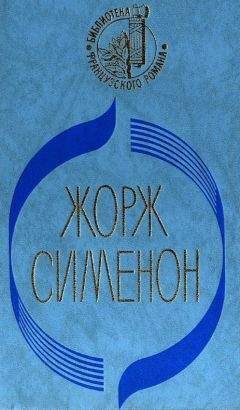Сименон Жорж
Маленький портной и шляпник
Жорж Сименон
Маленький портной и шляпник
МАЛЕНЬКОМУ ПОРТНОМУ СТРАШНО, И ОН ЦЕПЛЯЕТСЯ ЗА СВОЕГО
СОСЕДА, ШЛЯПНИКА
Кашудас, маленький портной с улицы де Премонтре, боялся. То был неоспоримый факт. Тысяча человек, точнее, десять тысяч человек - поскольку в городе было десять тысяч жителей тоже, не считая малолетних детей, боялись, но большинство в этом не признавались, не смели признаться даже собственному отражению в зеркале.
Прошло уже несколько минут, как Кашудас зажег электрическую лампочку, которую он с помощью куска проволоки подтягивал и закреплял прямо над своим рабочим местом. Еще не было четырех часов пополудни, но на улице уже начинало темнеть наступил ноябрь. Шел дождь. Уже две недели, как лил дождь. В освещенном сиреневым светом кинотеатре в ста метрах от мастерской, куда доносилось треньканье звонка, во французской и иностранной хронике показывали людей, плывущих по улицам на лодках, одинокие фермы посреди бушующих потоков, несущих вырванные с корнем деревья.
Все это важно. Все важно. Если б была не осень, если б не темнело в половине четвертого, если б не лило с неба с утра до вечера и с вечера до утра так, что людям не хватало сухой одежды, если б вдобавок ко всему не порывы ветра, проникающие в узкие улицы и выворачивающие зонтики наизнанку, как перчатки, Кашудас не боялся бы, да и вообще ничего бы, наверное, не произошло.
Он сидел по турецки, как сидят портные - ведь это и есть его ремесло, на большом столе, который он за тридцать лет работы отполировал своими ляжками, целыми днями восседая на нем Кашудас располагался на антресолях, прямо над мастерской. Потолок здесь был очень низкий. Напротив, на другой стороне улицы, над тротуаром был подвешен огромный красный цилиндр, который служил вывеской шляпнику. Спустившись ниже, взгляд портного Кашудаса проникал через витрину в магазин господина Лаббе.
Магазин был плохо освещен. Пыль, покрывающая электрические лампочки, делала свет тусклым Стекло витрины давно никем не мылось. Эти детали не так уж важны, но и они играют роль. Шляпный магазин был старым шляпным магазином. А улица - старой улицей, которая некогда являлась торговой артерией, в те далекие времена, когда современные магазины - стандартных цен и другие - со своими сверкающими витринами еще не появились поодаль, на расстоянии в пятьсот метров. Так что лавочки, сохранившиеся в этом конце плохо освещенной улицы, были старыми лавочками, и возникал вопрос, заходит ли в них вообще кто-нибудь.
Еще одна причина для страха. Пришел его час. В определенный момент Кашудас обычно начинал испытывать смутное беспокойство, которое означало, что ему пора выпить стакан белого вина, что организм, давно к этому привыкший, настойчиво требует свое.
И организм господина Лаббе тоже нуждался в этом. То был и его час. И словно в подтверждение видно было, как шляпник что-то говорит своему рыжему приказчику Альфреду, натягивает на себя тяжелое пальто с бархатным воротником.
Маленький портной спрыгнул со стола, схватил пиджак, повязал галстук и спустился по винтовой лестнице, крикнул куда-то в сторону.
- Я вернусь через пятнадцать минут.
Это было неправдой. Он всегда задерживался на полчаса, частенько на час, но уже многие годы неизменно возвещал, что возвратится через пятнадцать минут.
Надевая плащ, забытый и не востребованный каким-то клиентом, он услышал звон, донесшийся от дверей напротив. Господин Лаббе, подняв воротник, сунув руки в карманы, направился к площади Гамбетта держась вплотную к домам.
В свою очередь звякнул колокольчик и у двери маленького портного Кашудас устремился навстречу хлестнувшему его по щекам дождю, приотстав метров на десять от своего уважаемого соседа. На улице, где газовые фонари стояли вдалеке друг от друга и приходилось то и дело окунаться в черную тьму, они были совершенно одни.
Кашудас мог бы, сделав несколько быстрых шагов, догнать шляпника. Они были знакомы. Они здоровались, когда им случалось одновременно открывать ставни. Они говорили друг с другом в "Кафе де ла Пэ", где окажутся оба через несколько минут.
Тем не менее между ними существовали иерархические различия. Господин Лаббе был господином Лаббе, а Кашудас - просто Кашудасом. Итак, этот последний шел за шляпником, и ему было уже спокойней если бы на него сейчас напали, достаточно было крикнуть, чтобы призвать на помощь соседа.
А если шляпник удерет со всех ног? При мысли об этом у Кашудаса мурашки побежали по спине. Страх перед темными углами, перед кривыми улочками, удобными для засады, заставил его шагать по самой середине улицы.
Впрочем, идти надо было всего несколько минут. Конец улицы де Премонтре - и вот уже площадь с ее огнями, больше прохожих, несмотря на непогоду, и обычно стоящий на своем посту полицейский.
Оба мужчины, один за другим, повернули налево. Третий дом - это и есть "Кафе де ла Пэ" с его двумя ярко освещенными широкими окнами, с его успокаивающим теплом, завсегдатаями на привычных местах и официантом Фирменом, наблюдающим, как они играют в карты.
Господин Лаббе снял пальто, отряхнул. Фирмен, забрав его у шляпника, повесил на вешалку. Кашудас вошел следом, но свой плащ повесил сам. И это не имело значения. Это было естественно. Ведь он всего-навсего Кашудас.
Игроки и те, кто следил за игрой, пожали шляпнику руку, и он уселся позади доктора. Кашудаса они поприветствовали кивком или вообще не поздоровались. Он нашел место у самой печки, и скоро от его брюк пошел пар.
Вот из-за этих самых испаряющих влагу брюк маленький портной и сделал свое открытие. Он довольно долго смотрел на них, размышляя о том, что ткань не лучшего качества и брюки сядут. Затем он взглянул на брюки господина Лаббе глазом портного, чтобы убедиться, что они из лучшего материала. Ибо господин Лаббе одевался, разумеется, не у Кашудаса. Никто из тех, кто имели обыкновение приходить сюда в четыре пополудни и были гражданами именитыми, не одевались у маленького портного. Ему доверялась починка одежды или переделка - не больше.
Пол был устлан опилками. Мокрые подошвы оставили на нем причудливые узоры, там и сям комочки грязи. На господине Лаббе были изящные туфли и темно-серые, почти черные брюки.
И вот на левом манжете виднелась маленькая белая точка. Если бы Кашудас не был портным, он, может, не обратил бы на нее внимания. Он, верно, подумал, что это нитка, а портные имеют привычку вытаскивать нитки. Если бы он не был существом столь приниженным, ему бы и не пришло в голову наклониться.
Шляпник с некоторым удивлением наблюдал за его движениями. Кашудас схватил попавшую в манжет беленькую штучку. Это оказалась не нитка, а крошечный клочок бумаги.
- Извините... - прошептал Кашудас.
Ибо он всегда извинялся. Кашудасы извинялись во все времена. Столетия прошли с тех пор, как они, переброшенные, словно тюки, из Армении в Смирну или Сирию, приобрели эту благоразумную привычку.
Здесь следует подчеркнуть, что, пока он выпрямлялся, зажав бумажный клочок между большим и указательным пальцами, он ни о чем не думал. Точнее, он думал. "Это не нитка..."
Он видел ноги и ботинки играющих, чугунные ножки мраморного столика, белый фартук Фирмена. Вместо того чтобы бросить клочок бумаги на пол, он протянул его шляпнику, повторив.
- Извините...
Ведь шляпник мог удивиться - что он там ищет в манжете его брюк.
И вот в то мгновение, когда господин Лаббе в свою очередь взял бумажку - она была ничуть не больше кружочка конфетти, - Кашудас почувствовал, как его словно парализовало, а затылок насквозь пронизало крайне неприятное ощущение озноба.
Самое ужасное, что он смотрел прямо на шляпника и что шляпник смотрел на него. Так некоторое время они не отрывали друг от друга взгляда. Никто на них не обращал внимания Играющие и остальные следили за картами. Господин Лаббе выглядел как толстый человек, которого надули, а потом постепенно выкачали воздух. Он оставался по-прежнему внушительных размеров, но как-то обмяк. Его расплывшееся лицо почти не меняло выражения, хранило оно неподвижность и сейчас, в эту важнейшую минуту.
Он взял бумажку и, помяв ее пальцами, скатал в шарик не больше булавочной головки.
- Спасибо, Кашудас.
Об этом можно было бы спорить до бесконечности, и маленькому портному пришлось размышлять об этом днями и ночами: произнес ли шляпник эти слова обычным тоном? С иронией? Угрозой? Сарказмом?
Портной дрожал и чуть не опрокинул свой стакан, за который схватился, чтобы скрыть замешательство.
Не следовало больше смотреть на господина Лаббе.
Это было слишком опасно. Речь шла о жизни и смерти. Если для Кашудаса еще могла идти речь о жизни.
Он продолжал сидеть внешне неподвижно, однако ему казалось, что он подскакивает на месте; были моменты, когда ему приходилось сдерживаться изо всех сил, чтобы не кинуться сломя голову бежать.